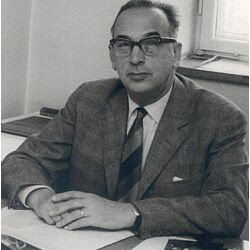Alexandre Bachrach. Neoplatonivizm
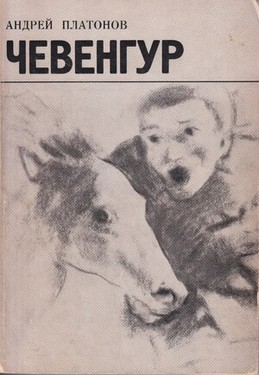
Первому поколению советских писателей была еще невдомек жесткая и корсетоподобная доктрина социалистического реализма, и на тернистую литературную дорогу они вступали кто как мог, приспособляясь к режиму, еще не обретшему твердых форм в отношении к литературе. Этим новичкам и была присвоена придуманная Троцким кличка «попутчики». Вслед за ними, несколькими годами позже на литературном горизонте вспыхнули новые «звезды». Среди них Олеша, рано умерший Заяицкий, поразивший повестью «Баклажаны», печальной памяти, но далеко не бездарный Фадеев и, наконец, всегда находившийся чуть в стороне от читательской массы Платонов.
Был он сыном чудаковатого воронежского слесаря и, видимо, собственную чудаковатость унаследовал от отца. Повоевав во время гражданской войны и затем кончив железнодорожный политехникум, он стал электромонтером и мелиоратором, но такого рода профессиональной деятельностью ограничивать себя не мог. С ранних лет он рвался к литературе, работал в местных газетенках и – грех молодости! – издал сборник стихов, в которых по тогдашней, насаждаемой Пролеткультом моде воспевал машину. «Мы убьем машинами вселенную», писал он, не сознавая, что эта дубовая строка окажется наиболее противоречащей всему его более позднему миросозерцанию.
Впрочем, Платонов очень скоро сам убедился, что поэзия – не его стихия и окончательно перешел на прозу. Его не отпугивали те препятствия, которые с каждым новым своим созданием ему приходилось преодолевать, он пропускал мимо ушей те нелепые придирки, которые каждое из них вызывало. Даже Горький, считавшийся в те дни литературным Папой, оценив по заслугам литературный дар Платонова, хоть и считал его «не ко времени», советовал ему переделать его роман «Чевенгур», так и оставшийся неопубликованным в советской стране, в пьесу – примерно так, как Николай I рекомендовал Пушкину переделать «Бориса Годунова» в роман в духе Вальтера Скотта.
Платонову и посвятил увесистую книгу в 400 страниц Михаил Геллер, человек ученый и зоркий, но в первую очередь историк. В силу своих академических привычек он чуть ли не каждое свое замечание счел нужным обосновать ссылкой на источники и в результате ввел в свое исследование свыше 1 400 сносок и примечаний. Такую дотошность можно в какой-то мере счесть ахиллесовой пятой Геллера, потому что порой создается впечатление, что иные свои мысли он у кого-то заимствовал, хотя бы у самого Платонова, и только собрав их, по-своему систематизировал. Но в действительности в геллеровских толкованиях и его интерпретациях слишком много ума и следов начитанности, чтобы поверить, что до них мог додуматься воронежский «самородок». Геллер намеренно забывает, что Платонов, в общем, гораздо примитивнее, чем он хочет его представить, и что если некоторые утопические его идеи сродни федоровским теориям и в чем-то соприкасаются с «Философией общего дела», то об этой редкостной книге он мог в лучшем случае знать только понаслышке и те примечательные и утонченные страницы, которые, комментируя Федорова, Геллер вставил в свою книгу о Платонове, имеют только косвенное отношение к его теме.
Геллер склонен рассматривать все творчество Платонова как некие вариации его мыслей об утопии, подчеркивая при этом неизбежное сродство автора с его героями. Анализируя платоновскую прозу, Геллер охотнее всего наклоняется над тем, как в ней рисуются взаимоотношения между теорией и практикой, между мыслью и действием, противоречия между тем, что было и тем, что было задумано, но чему не суждено осуществиться.
На фоне той серости, которую порождал соцреализм, «юродивый», как его определил Фадеев, Платонов казался писателем экстравагантным, которого, среди прочего, привлекали неосуществимые технические изобретения. Однако, по существу, его на столько интересовали изобретения, сколько отношение к ним из изобретателей. «Мир не совпадает с нашим знанием», заявлял Платонов устами одного из своих героев, и потому он готов признать, что любовь нужна человеку больше[,] чем знание. Это была его основная мысль, и недаром он утверждал, что его идеалы однообразны и постоянны, и только в угоду читателю, насилуя свою музу, он старается их разнообразить и опошлять.
Но едва ли это намеренное «опошление» шло ему на пользу. Отчужденность от литературных группировок была в основе его незамеченности, того, что и читательская масса и критика прошла, к примеру мимо его «Епифанских шлюзов», одной из наиболее значительных по своему удельному весу его книг. Действие ее перенесено в петровскую эпоху, и в основу книги положен исторический факт – проект прорытия канала Волга–Дон. Книга была замечательна тем, что в ней Платонову удалось сочетать состояние выписанного Петром из Англии «мастера шлюзного дела» не только с встреченным им на месте предстоящей работы брожением умов, но и с собственными раздумьями писателя. Чуть схематизируя, «Шлюзы» были повестью о несовпадении надежд с реальностью, собственно, той почти навязчивой идеей, которая легла в основу всего платоновского творчества.
Платонов, подобно своим героям, готов был вести борьбу за то, что он именовал «тишиной истории»[,] и это заставляло его быть не в меру честным и, может быть, именно из-за этой «честности» он не сумел отделаться от какой-то неуклюжести, от растянутых фраз, стремившихся слишком многое вместить.
Еще для него характерно, что, вероятно, как и он сам, его герои не сознавали ценности своей жизни, что неминуемо влекло к тому, что они уже не могли относиться с уважением и к жизни чужой.
Принадлежа к классу, который совершал революцию, Платонов считал, что имеет право критиковать ее недостатки[,] и на эту тему написал рассказ «Усомнившийся Макар», который был прочитан самим Сталиным и признан им «анархистским». Платонов не учел, что время классовых привилегий сменилось эпохой общего бесправия, и привилегии стали «монаршей» милостью, наградой за следование изменившейся партийной линии, а платоновский герой в своей наивности как бы жалуется Ленину на Сталина и скорбит из-за того, что происшедший распад мысли привел к распаду природы и культуры, потому что в его глазах культурная революция была построена на ненависти, а социальный контекст литературы оказался сведенным к освещению «мудрых» решений партийных органов.
Наряду с «Макаром» Платонов основал и некий «Город Градов», по одному звучанию своего имени напоминающий язвительную сатиру Щедрина. Действительно, в платоновском «Градов» хозяйничают перекрасившиеся Угрюм-Бурчеевы и немудрено, что какой-то шутник уверял, что прочел воззвание «За советскую бакенбарду! За новую наружность!»[.] Эту «бакенбарду» можно было легко счесть трагикомическим символам, поскольку утопия делалась нормой в то время, как норма становилась утопией. Поэтому в условиях тогдашнего быта было даже удивительно, что «органы» не трогали «пролетария» Платонова и только борзописцы советской печати обрушились на него за предельный индивидуализм и честили его «подпильнячком».
Это не помешало Платонову в этой удушливой обстановке написать философский роман «Чевенгур», в котором описывалось злоключение идей патологических строителей городка. Для них Прекрасная Дама олицетворялась в облике Розы Люксембург, а их беспощадность к воображаемым классовым врагам была оборотной стороной их искривленно понятой любви. Во имя несостоявшегося коммунизма они готовы были уничтожать без разбора всех неугодных, хотя уже сознавали, что лелеемые ими идеи Ленина уже пошли по ветру. Они только не догадывались, что сами они[,] как метко замечает Геллер, «красные партизаны – угли выгоревшей революции, которые больше не нужны, больше того, уже опасны, ибо угрожают всей системе».
Со стороны власть имущих было, пожалуй, «логично» запретить «Чевенгур», тем более, что в нем, собственно, высмеивался сталинский лозунг о строительстве социализма в одной стране. Как бы в ответ, Платонов на фоне «систематического бреда» говорил о строительстве коммунизма в одном уезде, в каком-то мифическом Чевенгуре, в котором его создатели приветствуют ту форму революции, которая начисто выполола все места, где еще оставалась культура, ожидая, что хорошая почва сама собой родит нечто «небывшее и драгоценное».
В итоге столь несвоевременных идей Платонов вынужден был на время замолкнуть и творчески воскреснуть, едва ли не по приказу свыше, только во второй половине 30-х годов. Он обратился тогда к писанию статей, в чем нетрудно узреть очередную писательскую «сдачу». Чтобы продвигаться в «правильном» направлении, он пересматривает свои взгляды и, теряя остроту своей индивидуальности, естественно блекнет. Все же устами одного из своих героев, несомненно близкого его сердцу, он походя раскрывает подлинную сущность происходившего за его окнами, определяя ее как «царство мнимости». В этих двух словах Платонову очень по-своему удалось выразить фантастичность реальности тех дней и наряду с этим – реальность невообразимого.
На страницах своих книг Платонов создал жестокий, садистский мир, в котором омрачаются даже самые радостные и неприхотливые моменты человеческого существования.
Геллер назвал свою книгу «Платонов в поисках счастья», но, читая ее, можно скорее подумать, что Платонов, как и его герой, постоянно бежали от того, что простые смертные, а по его терминологии «дураки», признают счастьем. Ни ему, ни им не удавалось преодолеть тех конфликтных положений, которые создавались жизнью и усугублялись творческой фантазией Платонова. А когда он попытался «сойти на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети», его тотчас обвиняли в побеге от реальной жизни и приравнивали к измене родине.
Так и завершился круг творчества Платонова, который считал, что по природе своей человек слаб и с этим следует примириться. За столь неуместные слова газета «Правда» презрительно обозвала его «беллетристом» и этим прикрыла ему ворота советского Пантеона. Несмотря на посмертное издание избранной его прозы, он пока (а это очень емкое слово) остается «попутчиком», хотя это понятие давно вышло из литературного обихода.