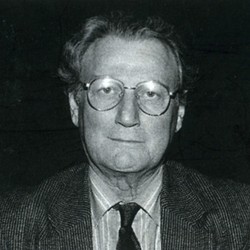Arkady Lvov. Dreamers from Chevengur
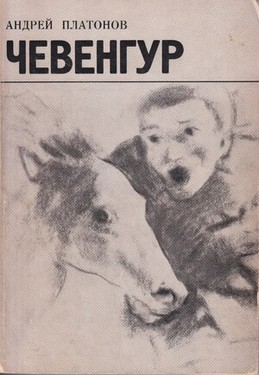
В 1928 году в журнале «Новый мир» была напечатана глава из романа Андрея Платонова «Чевенгур». При жизни писателя роман не увидел света. Полный текст его был опубликован через двадцать один год после смерти Андрея Платонова – в 1972 году, в Париже.
Говорили, на рассказе «Возвращение», который Андрей Платонов опубликовал в первый послевоенный год, – о встрече фронтовика со своим двенадцатилетним сыном мальчиком-мужиком, – товарищ Сталин собственноручно сделал надпись: «Талантлив, но сволочь».
Впервые вождь обратил внимание на Андрея Платонова в далекие двадцатые годы, когда в журнале «Октябрь» появился рассказ «Усомнившийся Макар». Фадеев, состоявший тогда в редколлегии журнала, писал: «Я прозевал недавно идеологически двусмысленный рассказ А. Платонова “Усомнившийся Макар”, за что мне поделом попало от Сталина, – рассказ анархистский».
Дело было в 1929 году. В том же году Андрей Платонов предложил издательству «ЗИФ» свое новое произведение: роман «Чевенгур». На этот раз издатели и редакторы не прозевали: роман был отвергнут.
В чем же дело, почему был отвергнут «Чевенгур»? Потому ли, что товарищ Сталин уже погрозил издателям пальцем по поводу упущения с Платоновым, или по той причине, что сами издатели увидели – роман-то с червоточинкой?
Надо отдать должное издателям: на этот раз они сами, без внушения свыше или со стороны, ухватили суть. Из письма Платонова Горькому известно, что, по заключению издательства, «революция в романе изображена неправильно... все произведение поймут даже как контрреволюционное».
Любопытно, что сам Андрей Платонов нисколько не считал свой роман контрреволюционным и продолжал искать пути к публикации его. Горький, которому он послал рукопись, признал, что роман «чрезвычайно интересный», но печатать все-таки его нельзя: «Хотели вы этого или нет, – писал он, – но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический... При всей нежности вашего отношения к людям, они у вас окрашены иронически, являются перед читателем не столько революционерами, как “чудаками” и “полоумными”[»].
Как видим, в отличие от издателей, которые прямо заявили, что «все произведение поймут даже как контрреволюционное», Горький говорил лишь, что герои романа являются не столько революционерами, сколько – как может показаться читателям! – «чудаками» и «полоумными».
А теперь зададимся вопросом: почему же, собственно, герои романа – Александр Дванов, Копенкин, Пашинцев, Чепурный, Гопнер – могли показаться читателю чудаками и полоумными? Разве отстаивали они старую, царскую Россию? Разве не признали революцию своей? Разве не стали в один ряд с большевиками, с партией – то ли как члены РКП, то ли как беспартийные коммунисты?
В том-то и дело, что и прежнюю жизнь похерили, и в большевистские ряды встали, и сражались за новый мир, не щадя живота своего, и в коммунизм верили, что вот он, у порога – отвори лишь двери:
«Дванова начала мучить уверенность, что он уже знает, как создать социалистический мир в степи, а ничего еще не исполняется. Он не мог долго выносить провала между истиной и действительностью, у него голова сидела на теплой шее, и что думала голова, то немедленно превращалось в шаги, в ручной труд и в поведение. Дванов чувствовал свое сознание, как голод, – от него не отречешься и его не забудешь».
Верили платоновские герои – по крайней мере, наиболее сознательные из них – в близость коммунизма, в реальность его, которая была сродни реальности явлений природы: кончится ночь – настанет утро, взойдет солнце. И нет такой силы в мире, чтобы могла она отменить или изменить существующий порядок вещей: после ночи – всегда утро, всегда солнце. Конечно, могут сыскаться такие, что забьют окна, заколотят двери, законопатят щели – и вот тебе вечная ночь. Но ведь это ночь только у них в дому, в четырех стенах ихних, а кругом в мире – уже день, уже солнце.
Нет, тут главное – не проспать, не прозевать! «В самый же первый день социализма Чепурный проснулся настолько обнадеженным раньше его вставшим солнцем и общим видом целого готового Чевенгура, что попросил... сейчас же идти куда-нибудь и звать бедных в Чевенгур».
Тут, правда, следует оговорить, что не все одинаково отчетливо видели коммунизм. Случалось даже смущение и у самых рьяных, самых железных большевиков: «Карл Маркс глядел со стен, как чуждый Саваоф, и его страшные книги не могли довести человека до успокаивающего воображения коммунизма».
Неясность эта делала, понятно, свое черное, свое ядовитое дело: иные просто вертелись на одном месте, как флюгер – куда подует, туда и повернет. А иные, сбитые с панталыку, ставили знак равенства между коммунизмом и анархией, надрывая горло в пакостных песнях:
Кройся, яблочко,
Спелым золотом,
Тебя срежет совет
Серпом, молотом...
Эх, яблочко,
Задушевное ,
Ты в паек попадаешь, –
Будешь прелое...
Ты на дереве растешь
И дереву кстати,
А в совет попадаешь
С номером-печатью...
А кончали песню с присвистом, напропалую:
И-эх, яблочко,
Ты держи свободу:
Ни советам, ни царям,
А всему народу...
Но, повторяем, платоновские герои были не из тех, кого так, за здорово живешь, всякий с панталыку сбить мог. Они верили в коммунизм прочно и ежели не видели коммунизма своими глазами, не щупали своими руками, то в этом была вина не коммунизма, а была вина их собственная – не те глаза, не те руки, какие нужны, чтобы узреть и осязать полный коммунизм. Что же касается коммунизма неполного, то он уже стал появляться в Чевенгуре на следующий день, как только выбили белых, ибо советская власть – это и есть начало коммунизма. И Чепурный уже учился формулировать: «целый коммунизм лежит в каждой душе и каждому хранить его охота...»
Время, однако, делало свое подозрительное дело: укрепляло веру в коммунизм, но как-то так, что вроде бы одновременно и подмывало ее. «Революция прошла, как день; в степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского пешеходства. Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине, испустившее дух, как скошенная нива... Никто уже не показывался в степи на боевом коне: иной был убит и труп его не был найден, а имя забыто, иной смирил коня и вел вперед бедноту в родной деревне, но уже не в степь, а в лучшее будущее».
Но не всякий, даже из самых прочно веривших в коммунизм, понимал ясно, а где же[,] собственно, его настоящее, его главное место. Настало дивное время, когда главное, так складывалось, требовало от каждого полной обезлички, начиная с самого себя, ибо «революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела».
Тут, однако, тоже не следовало в крайность впадать: обезличка должна была состояться всеобщая, но не поголовная. И Чепурный со всей ясностью и себе и другим объяснял: «Я уже заметил где организация, там всегда думает не более одного человека, а остальные живут порожняком и вслед одному первому. Организация – умнейшее дело: все себя знают, а никто себя не имеет. И всем хорошо, только одному первому плохо – он думает. При организации можно много лишнего от человека отнять».
Вот это – что «при организации можно много лишнего (!) от человек отнять» – и было главное, к чему пришли чевенгурские строители коммунизма, подлинные революционеры, а не «чудаки» и «полоумные», за которых, как опасались издатели и редакторы, мог будто бы принять их советский читатель.