- Boris Filippov
-
Authors
- Review
-
Source Type
- Poem without a Hero Review
- Poem without a Hero Review
-
Publications
- 1961
-
Date
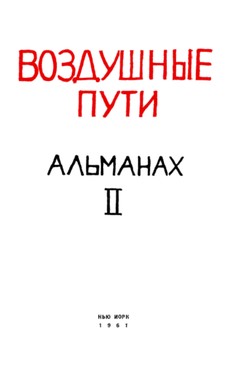
Есть разные виды реализма: можно изобразить, например, Пушкина в виде невысокого и невзрачного бронзового человечка, в смешной старомодной длиннополой одежде – ведь в какой-то мере это будет тоже правдой: правдой не слишком-то глубокой, внешней, поверхностной, но все-таки правдой. Так и поступили авторы наших статуй Пушкина, но портретист Орест Кипренский не погнался за этой внешней правдой, а в своем репрезентативном портрете, в меру своих сил и понимания, изобразил Пушкина-поэта. Внешнего сходства при этом оказалось не так много, вернее, так немного, что Пушкин посмеивался:
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит:
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Что же изображать? Рефлексы света и тени на поверхности предмета, воздушную атмосферу, его окружающую, – как это умели блестяще делать, например, импрессионисты, – или саму вещность предмета, пребывающую более или менее неизменной в потоке ежемгновенных изменений, – как это пытался делать Сезанн, – или, наконец, сосредоточить свои усилия, всю мощь своих душевных сил – на постижении внутренней сущности изображаемого, как в разных областях духовности творили русские иконописцы XIV века и Рембрандт? Я нарочно обратился к ваянию и живописи, как искусствам более ощутимым, на примере которых легко осязательно, наглядно осознать разные виды и направления реализма. Ибо изображение внутреннего душевного мира не может сопрягаться с таким же реальным изображением материальной оболочки изображаемого – чем-нибудь приходится поступиться, – а уж художническое постижение духовного начала изображаемого «ставит под удар» не только портретное внешнее сходство, но и психологическую характеристику. Мы – не боги, и всецелая полнота сущего не может быть нам дана ни в восприятии, ни в творческом акте.
Осязаемо-вещная и просторечиво-психологическая муза Ахматовой, ранней Ахматовой «Вечера» и «Четок», уже в середине двадцатых годов начала принимать совсем иной, напряженно-внутренний и возвышенный, скажем, оттенок. Исключительная прозрачность и тонкая психологичность ее стихов стала вытесняться тяжкой поступью иных видений, постижения внутренней сути мира. На смену лиризму и драматизму пришло трагедийное восприятие жизни.
Это движение от ясности к духовности, от гомофонии к полифонии было воспринято многими не как духовное и творческое возрастание, а как «измена» и «падение». Уже в самом начале двадцатых годов, как свидетельствует Георгий Иванов, большинство неистовых ранее поклонников – и особенно поклонниц – Ахматовой «<…> было разочарованно: – Ахматова исписалась <…>. Пять лет ее не слышали и не читали. Ждали того, за что Ахматову любили – новых перчаток с левой руки на правую. А услышали совсем другое:
Все потеряно, предано, продано,
Отчего же нам стало светло?..
...И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам.
Слушатели недоумевали – “большевизм какой-то”. По старой памяти, хлопали, но про себя решили: конечно – исписалась. <…> Все курсистки России, выдавшие ей “мандат” быть властительницей их душ – обмануты. Ахматова оказалась поэтом, с каждым годом перерастающим самое себя».[1]
Как же должны были усилиться эти осуждающие Ахматову голоса после появления поэмы «Шаг времени» (первая появившаяся в печати редакция триптиха) и «Поэмы без Героя»! «Строже всего, как это ни странно, ее судили мои современники, – рассказывает автор в письме 27 мая 1955, – и их обвинение сформулировал в Ташкенте X, когда он сказал, что я свожу какие-то старые счеты с эпохой (10-е годы) и людьми, которых или уже нет, или которые не могут мне ответить. Тем же, кто не знает некоторые “петербургские обстоятельства”, Поэма будет непонятна и неинтересна. Другие, в особенности женщины, считали, что Поэма без Героя – измена какому-то прежнему “идеалу”, и, что еще хуже, разоблачение моих давних стихов “Четки”, которые они “так любят”».
И действительно: 1913 год: ах, как он был в их представлении безоблачен, радостен, благополучен! Ну, о каких таких апокалипсических тревогах и признаках катастрофы можно было тогда говорить! Их – этих признаков и предвещаний – не было и в помине! Было иное: агнивцевское:
Букет от Эйлерса! Вы слышите мотив
Двух этих слов...
Был «блистательный Санкт-Петербург» и безмятежный быт, и только чудаки, мол, вроде Ахматовой или – особенно – Блока, «трагического тенора эпохи», могли видеть этот грядущий катаклизм, могли усмотреть сквозь этот блестящий наряд эпох какие-то язвы на теле и распадение на аморфные элементы духа, слышать отдаленный, нет, очень уже приблизившийся гул небывалых потрясений: «Так или иначе – мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами – громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы» (А. Блок. Стихия и культура. Дек<абрь> 1908). А уж писать в ретроспективном порядке праздную ложь или бытописательную поверхностную олеографию предреволюционных лет могут только вчерашние участники сборников «Знания» или изголодавшиеся по покою слабодушные авторчики. Для больших и навечных – наше сегодня озаряет трагедийным, но и очищающим – искупающим через страдания – огнем наше вчера и позавчера. В одном из последних стихотворений Ахматова пишет:
И в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга, и в сумраке лож:
Тот запах и душный и сладкий,
И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок –
Трагический тенор эпохи.
Эти стихи (кстати, тоже «Посвящение», как и многочисленные и очень схожие «посвящения» к «Поэме без Героя») из последней ахматовской, кажется, еще не вышедшей в свет, книги – как-то освещают и «Поэму без Героя». Воистину без героя, ибо героем поэмы, единственным отвоплотившимся до конца, является сама эпоха, время распада отдельных личностей, их обезличения, но сама по себе – эпоха очень яркая и характерная. А личности в ней – и в поэме, и в эпохе – только слегка намечены, и то наиболее великие, и притом иной раз восходящие к иному времени, в двадцатый век забредшие из девятнадцатого, как посланники русской совести, как представители великой литературы великого века. Таков ясный в поэме Блок. Таково упоминание – еще более символическое – Достоевского, особенно в первом по опубликованию (но не по написанию) варианте поэмы – «Шаг времени», – и открывающемся в этом ключе:
Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольней…
В маскарадной пестряди не лиц, а масок, мелькают многие, но сам автор старается как можно дальше отодвинуть их отожествление с определенными реальными личностями. Так, Второе посвящение поэмы «Путанице-Психее» было обращено – в предыдущей, помещенной в первом выпуске «Воздушных Путей», редакции – О. А. Глебовой-Судейкиной. А в помещаемой в этой книге более поздней редакции «Поэмы без Героя» – посвящение это означено только инициалами. И неспроста; так – отдаленный, менее вещно, менее конкретно: так лучше для замысла поэмы. Да, скорее личины, чем лица: эпоха, повторяю, не дает отвоплотиться отдельным лицам: когда слишком много внешних событий – почти нет места для жизни индивидуальной, личные события перестают отмечаться нами, как материал для постройки нашей души и литературы. И маскарад этот – не маскарад только вчерашней эпохи: Гамлет и Казанова, Дон-Жуан и Фауст, Лизиска и Хаммураби, Калиостро и Железная Маска – все типы и эпохи истории предстоят перед судом совести, поздней совести, подчеркивая отнюдь не провинциальное, а провиденциальное значение российской истории и русской культуры последних ста лет:
Проплясать пред Ковчегом Завета
Или сгинуть...
Да, конечно, трамплином для фантазии и осмысливания поэтом реальности явились конкретные лица и «некоторые петербургские обстоятельства» 1913 и последующих годов. Но они – только предлог, не материал, даже не генетический импульс поэмы. «Кто-то даже советует сделать мне поэму более понятной, – иронизирует автор: – Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит. Ни изменять, ни объяснять ее я не буду». Так и надо. Настоящая поэзия – иррациональна: «Ты знаешь песню. Что сказать мне больше?» – так недоумевает Гаэтан-Блок, когда его просят разъяснить потаенный смысл баллады. А уж нашу совсем иррациональную, невсамделишную жизнь можно соответственно, воистину реально отразить только в таком сложном полифоническом произведении, как «Поэма без Героя». Да и вообще степень «метафизического реализма» в поэзии настолько велика, что тщетно искать ее материальные истоки в происшествиях и характерах действительности: мы никогда не узнаем – что быль, а что – домысел или просто вымысел:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит задорен, нежен,
На радость вам и мне.
1940[2]
Не будем доискиваться: какие происшествия и какие лица легли в подножие авторской фантазии, явились трамплином для ее полета: это ни к чему, ибо это – область не литературы, а окололитературной сплетни, естественной, но едва ли почтенной. Наша задача иная: посмотреть – как видоизменялся замысел поэмы, как вырастала она из первоначальной сгоряча написанной баллады в широкое полотно, равное высочайшим созданиям русской пореволюционной музы: «Погорельщине» Клюева, «Торжеству Земледелия» Заболоцкого и «Доктору Живаго» Пастернака, таким различным по тональности и таким близким по осознанию нашей трагической эпохи. И читатель должен заранее извинить автора этих строк за вереницу и величину цитат: часто дело идет о не слишком-то доступных читателю произведениях, затерянных в позабытых журналах и истлевших альманахах или газетах.
* * *
Судя по письму Ахматовой, первые наброски поэмы относятся к осени 1940 года, а «в бессонную ночь 26–27 декабря этот стихотворный отрывок стал расти и превращаться в первый набросок ‟Поэмы без Героя”». Пометка же в конце поэмы свидетельствует о дате и месте ее окончания: Ташкент, 18 августа 1942. Но поэма и после этой даты дополнялась и перерабатывалась, а начальные если не наброски, то замыслы ее восходят к значительно более раннему времени.
Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой.
– «Ну, вы пропали, она вас никогда не отпустит», – сказала Ахматовой одна ее знакомая. Поэма, действительно, многие годы держит в плену поэта.
И первым зерном этой поэмы, о чем свидетельствует и автоцитата в первой части триптиха, явилась написанная около 1923 года замечательная, колдовская баллада, прошедшая почему-то мало замеченной и никогда более не перепечатывавшаяся:
И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.
Это муж мой и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино как отрава жжет?[3]
Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!»
А друг, поглядевши в лицо мое,
И вспомнив Бог весть о чем,
Воскликнул: «а я за песни ее,
В которых мы все живем!»
Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: «мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет».[4]
Около того же времени задумана поэма «Русский Трианон (Воспоминание о войне 1914–1917 гг.)», отрывок из которой, датированный 1923 годом, был впервые опубликован только в начале 1946 года.[5] Некоторые образы этого отрывка напоминают «Поэму без Героя», но ритм, мелодика и вся поступь «Трианона» совсем не те, что в «Поэме», да и едва ли соответствуют замыслу «воспоминаний о войне 1914–1917 гг.». Однако тема «Трианона» – почти та же, что и «Триптиха», – следовательно, идея поэмы о кануне революции и самой революции возникает у Ахматовой еще в 1923 году.
<…> А я дописываю «Нечет»
Опять в предпесенной тоске.
<…>
До поворота мне видна
Моя поэма, – в ней прохладно,
Как в доме, где душистый мрак
И окна заперты от зноя,
Где нет ни одного героя,
Но крышу кровью залил мак.[6]
Так пишет Ахматова во Вступлении к поэме «Луна в зените» не только о набросках этой ее «ташкентской поэмы», но, конечно, и о «Поэме без Героя», заканчивавшейся вчерне в том же Ташкенте. «В “Нечет” входят стихи военных лет, главным образом стихи, посвященные Ленинграду, – рассказывает Ахматова о своей будущей (не состоявшейся) книге, и продолжает о поэме: – Продолжаю работать над поэмой “Триптих”, начатой в 1940 году и вчерне законченной в 1942 году. В поэме три части: “1913 год”, “Решка” (“Интермеццо”) и “Эпилог”[»][7]. В своей книге «Бесчеловечная земля» Иосиф Чапский рассказывает о том, как он слушал в Ташкенте, на квартире у А.Н. Толстого, Ахматову, читавшую свою поэму о Ленинграде. Правда, память его включила в эту поэму и отдельные стихи об осажденном городе, включенные не в поэму, а в книгу «Нечет» (напр<имер>, стихотворение «Щели в саду вырыты»).[8]
Один отрывок этой поэмы – из ее эпилога – «А не ставший моей могилой» – был опубликован в качестве самостоятельного стихотворения еще до 1945 г. У пишущего эти строки была вырезка из неизвестно какого журнала или газеты того времени. Установить точно – где и когда этот отрывок был опубликован, еще не удалось.
Впервые поэма, вернее, отрывки из поэмы, под названием «Шаг времени», были опубликованы – с несомненными сокращениями, по видимому цензурного порядка[9] – в «Ленинградском Альманахе», Лениздат, 1945, на стр. 209–212. Эта редакция поэмы, ввиду ее исключительной важности для понимания помещаемой в настоящем сборнике «Воздушные Пути» последней нам известной редакции «Поэмы без Героя», приводится нами в приложении к этой статье. Но так как последняя главка «Шага времени» является лишь сокращенной редакцией главок II и III части 1-й «Поэмы без Героя» («1913»), в настоящей публикации она опущена. Пишущий эти строки сделал попытку реконструкции более полного, нежели в альманахе, текста «Шага времени», дополнив этот текст по последующим публикациям соответствующих отрывков. Первая по времени опубликования, эта редакция – наиболее поздняя по времени написания, ибо ее первая главка – «Предыстория» – в последующей публикации датирована 1945 годом. Интересна эта редакция и тем, что в ней значительно расширены временные рамки поэмы, что сближает замысел триптиха с «Возмездием», А. Блока, также начинающимся в «победоносцевские времена».
В альманахе «Литературная Москва», (Сборник 1-й), ГИХЛ, Москва, 1956, стр. 537, помещено стихотворение «Петроград. 1916» («Сучья в иссиня-белом снеге»), являющееся отрывком из главок II и III первой части поэмы. Название отрывка – «Петроград. 1916» – лишний раз подчеркивает полную условность названия первой части поэмы – «1913», – эти даты только символ «Канунов». Такова поэма – и особенно первая ее часть – и по замыслу:
Приближался не календарный –
Настоящий Двадцатый Век.
Два больших «Отрывка из поэмы» опубликованы в первом томе «Антологии Русской Советской Поэзии в двух томах. 1917–1957», ГИХЛ, Москва, 1957, стр. 323–324:1. «А вокруг старый город Питер» (32 строки из главок II и III первой части поэмы); II. «Так под кровлей Фонтанного дома» (42 строки из эпилога поэмы). Во втором отрывке наиболее существенно разночтение с нашим текстом поэмы в самом конце отрывка:
И на гулких сводах мостов,
И на старом Волковом Поле,
Где могу я плакать на воле
В чаще новых твоих крестов.
В 1958 году (подписана к печати 18/VII 1958) вышла книга: Анна Ахматова. СТИХОТВОРЕНИЯ. ГИХЛ, Москва, 1958. В книжке этой помещены «Предыстория» (стр. 82–84; строки 1–57 нашего «Шага времени», см. приложение) и «Отрывок» («Так под кровлей Фонтанного дома», стр. 90–92). В «Отрывке» нет строк 19–30, 43–48, 55–60, 67–78 нашего текста эпилога, есть и другие разночтения, из которых наиболее существенно иное окончание поэмы:
Но сраженная бледным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И сжимая уста, Россия
От того, что сделалось прахом,
В это время шла на Восток.
И себе же самой навстречу
Непреклонно в грозную сечу,
Как из зеркала наяву,
Ураганом с Урала, с Алтая
Долгу верная,
молодая
Шла Россия спасать Москву.
В 1959 году, в 7-й книге журнала «Москва», на стр. 143–144, появились отрывки из поэмы «Триптих»: «Посвящение» («Не диктуй мне, сама я слышу», 6 строк), «Петербург в 1913 году» («Были Святки кострами согреты», 34 строки из II и III главок 1-й части поэмы, несколько иная редакция, нежели помещаемая в настоящем альманахе) и «Лирическое отступление» («А сейчас бы домой скорее», 14 строк из главки III первой части поэмы).
В той же книжке журнала помещено чрезвычайно интересное стихотворение Ахматовой:
Сладко ль видеть неземные сны?
А. Блок
Был вещим этот сон или не вещим...
Марс воссиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим,
А мне в ту ночь приснился твой приезд.
Он был во всем... И в баховской чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О милый сон, как мог ты весть такую
Мне на ухо чуть слышно прошептать!
Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожженную тетрадь.
Под Коломной.
Не кажется ли вам, что это – тоже одно из посвящений, которыми так обильно и так многозначительно обрастает «Поэма без Героя»? Стихи, пишущиеся в «сожженную тетрадь» – не в сожженную ли тетрадь царскосела-поэта гр<ражданина> В. К(омаровского) – из выжженного Царского Села: «Мой городок игрушечный сожгли...»:
А так как мне бумаги не хватило,
я на твоем пишу черновике... (Первое посвящение).
А начало третьего посвящения – с многозначительным эпиграфом:
Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за нею войдет человек –
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что случится Двадцатый Век.
Впервые полностью – в несколько иной редакции – «Поэма без Героя» опубликована в первом выпуске альманаха «Воздушные Пути», Нью-Йорк, 1960, стр. 5–42.
* * *
Нужно ли объяснять поэму? Если нужно, то только путем сопоставления ее – и ее литературных современников, ее литературных предшественников. Сама Ахматова помогла этому – и автоцитатами, и эпиграфами из Осипа Мандельштама, Мих<аила> Лозинского, Пушкина и моцартовского Дон-Жуана. И автор этой статьи, пожалуй, может только одним словом определить видящийся ему смысл поэмы (не желая подменять автора, заявившего категорически: «...объяснять ее я не буду») – ИСКУПЛЕНИЕ. Ибо если было много правды, то немало и неправды. Ибо близятся сроки и времена для вчерашней культуры: времена, может статься, эсхатологические:
Приближается не календарный
Настоящий Двадцатый Век.
Приложение
ШАГ ВРЕМЕНИ
ПРЕДЫСТОРИЯ
Я теперь живу не там..
Пушкин
Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольней.
Торгуют кабаки, летят пролетки,
Пятиэтажные растут «громады»
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.
Везде танцклассы, вывески менял,
А рядом: Henriette, Basil, Andre
И пышные гроба – Шумилов старший.
Но, впрочем, город мало изменился.
Не я одна, но и другие тоже
Заметили, что он подчас умеет
Прикинуться старинной литографьей –
Не первоклассной, но вполне пристойной,
Семидесятых, кажется, годов.
Особенно зимой, перед рассветом,
Иль в сумерки – тогда за воротами
Темнеет жесткий и прямой Литейный,
Еще не опозоренный модерном,
И визави меня живут – Некрасов
И Салтыков... Обоим по доске
Мемориальной. О, как было б страшно
Им видеть эти доски! Прохожу.
А в Старой Руссе пышные канавы,
И в садиках подгнившие беседки,
И стекла окон так черны, как прорубь,
И мнится, там такое приключилось,
Что лучше не заглядывать, уйдем.
Не с всяким местом сговориться можно,
Чтобы оно свою открыло тайну
(А в Оптиной мне больше не бывать…)
Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
Ореховые рамы у зеркал,
Каренинской красою изумленных,
И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве,
И тот же плюш на креслах...
Все разночинно, наспех, как-нибудь...
Отцы и деды непонятны. Земли
Заложены. И в Бадене – рулетка.
И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них!),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила –
Ненужный дар моей жестокой жизни…
Страну знобит, а старый каторжанин
Все понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемещает все
И сам над первозданным беспорядком,
Как некий дух, взнесется. Полночь бьет,
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем
Так вот когда мы вздумали родиться
И, безошибочно отмерив время,
Чтоб ничего не пропустить из зрелищ
Невиданных, простились с небытьем.
НА СМОЛЕНСКОМ
А все, кого я на земле застала,
Вы – века прошлого дряхлеющий посев.
<…>
Вот здесь кончалось всё: обеды у Донона,
Интриги и чины, балет, текущий счет...
На ветхом цоколе дворянская корона,
И ржавый ангелок сухие слезы льет.
Восток еще лежал непознанным пространством
И громыхал вдали, как грозный вражий стан,
А с Запада несло викторианским чванством,
Летели конфетти и подвывал канкан.
ЮНОСТЬ
Пятнадцатилетние руки
Тот договор подписали
Среди цветочных киосков
И граммофонного треска,
Под взглядом косым и пьяным
Газовых фонарей.
А на закат наложен
Был белый траур черемух,
Что осыпался мелким,
Душистым, сухим дождем...
И облака сквозили
Кровавой Цусимской пеной,
И плавно ландо катили
Теперешних мертвецов.
А нам бы тогдашний вечер
Показался бы маскарадом,
Показался бы карнавалом,
Феерией grand-gala
От дома того – ни щепки,
Та вырублена аллея,
Давно опочили в музее
Те шляпы и башмачки.
Ты неотступен, как совесть,
Как воздух, всегда со мною.
Зачем же зовешь к ответу?
Свидетелей знаю твоих:
То Павловского вокзала
95 Накаленный музыкой купол,
И водопад белогривый
У Баболовского дворца.
ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ
<…>
Все равно подходит расплата.
Видишь там, за вьюгой крупчатой
Театральные арапчата
Затевают опять возню.
Всего 64 строки из главок II и III первой части поэмы, кончая строками:
Он почти не касался слуха
И в сугробах невских тонул.
ПРИМЕЧАНИЕ
Настоящая публикация отрывка из поэмы «Шаг времени» не представляет собою простую перепечатку текста, опубликованного под тем же названием в «Ленинградском Альманахе», Лениздат, Ленинград, 1945, стр. 209–212. Наличие значительного количества строк, состоящих лишь из точек, фрагментарность отдельных частей заставляет предполагать или значительное цензурное вмешательство в редактирование поэмы – или боязнь возможности такого вмешательства. В альманахе опубликованы строки 1–39, 58–97 приводимых выше главок и 33 строки из 2-й и 3-й главок первой части поэмы. Строки 1–57 опубликованы в книге: А. Ахматова. СТИХОТВОРЕНИЯ. ГИХЛ, Москва, 1958, стр. 82–84, под названием «Предыстория» и с указанием даты – 1945. Строки 40–57 включены нами по тексту этой книги.
Б. Ф.
[1] Г. Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник», Париж, 1928, стр. 74.
[2] Анна Ахматова. Из шести книг. Изд. «Советский Писатель», Ленинград, 1940, стр. 42.
[3] Строка, цитируемая в первой главке первой части поэмы.
[4] «Русский Современник», 1924, кн. 1, стр. 41.
[5] «Ленинград», № 1–2, январь-февраль 1946, стр. 13.
[6] «Звезда», 1945, кн. 2, стр. 35.
[7] «Литературная Газета», №48 (2259), от 24 ноября 1945, раздел «Будущие книги».
[8] И. Чапский. Облака и голуби (отрывок из книги), в журнале «Kultura» («La Culture»), Numer rosyjski, Maj 1960, Pariz (Institut Literacki), str. 39–43. См. также во французском издании книги: Joseph Czapski, Terre inhumaine. Paris, 1949, p.p. 180–186.
[9] Почти все пропуски-сокращения в «Ленингр<адском> Альманахе» отмечены строчками точек.