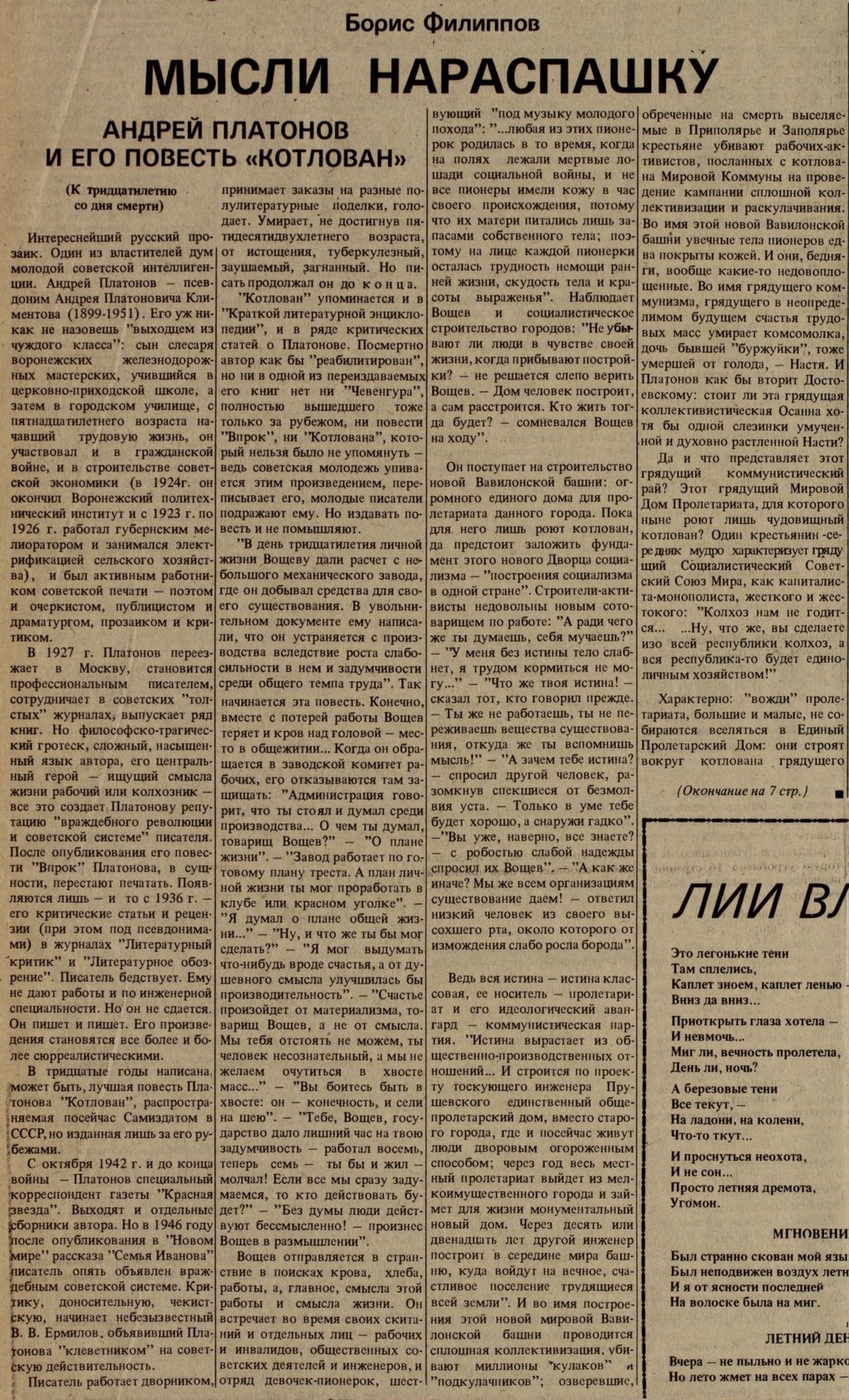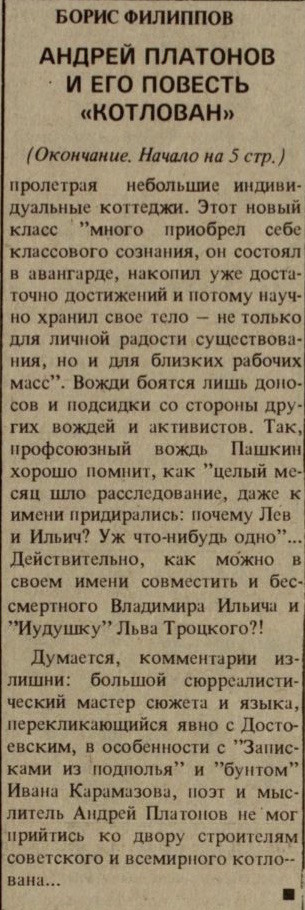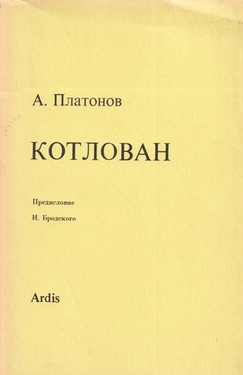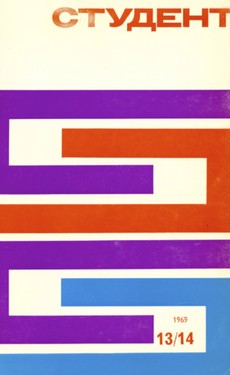Boris Filippov. Andrei Platonov and His Novella 'The Foundation Pit' (on the 30th Anniversary of His Death)
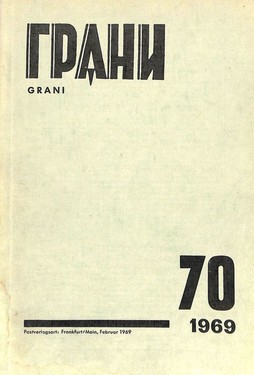
- Boris Filippov
-
Authors
- Paratext
-
Source Type
- The Foundation Pit (1969) Preface
- The Foundation Pit (1969) Preface
- Kotlovan Preface
-
Publications
- January 1981
-
Date
Интереснейший русский прозаик. Один из властителей дум молодой советской интеллигенции. Андрей Платонов – псевдоним Андрея Платоновича Климентова (1899–1951). Его уж никак не назовешь «выходцем из чуждого класса»: сын слесаря воронежских железнодорожных мастерских, учившийся в церковно-приходской школе, а затем в городском училище, с пятнадцатилетнего возраста начавший трудовую жизнь, он участвовал и в гражданской войне, и в строительстве советской экономики (в 1924 г. он окончил Воронежский политехнический институт и с 1923 г. по 1926 г. работал губернским мелиоратором и занимался электрификацией сельского хозяйства), и был активным работником советской печати – поэтом и очеркистом, публицистом и драматургом, прозаиком и критиком.
В 1927 г. Платонов переезжает в Москву, становится профессиональным писателем, сотрудничает в советских «толстых» журналах, выпускает ряд книг. Но философско-трагический гротеск, сложный, насыщенный язык автора, его центральный герой – ищущий смысла жизни рабочий или колхозник – все это создает Платонову репутацию «враждебного революции и советской системе» писателя. После опубликования его повести «Впрок» Платонова, в сущности, перестают печатать. Появляются лишь – и то с 1936 г. – его критические статьи и рецензии (при этом под псевдонимами) в журналах «Литературный критик» и «Литературное обозрение». Писатель бедствует. Ему не дают работы и по инженерной специальности. Но он не сдается. Он пишет и пишет. Его произведения становятся все более и более сюрреалистическими.
В тридцатые годы написана[,] может быть, лучшая повесть Платонова «Котлован», распространяемая посейчас Самиздатом в СССР, но изданная лишь за его рубежами.
С октября 1942 г. и до конца войны – Платонов специальный корреспондент газеты «Красная звезда». Выходят и отдельные сборники автора. Но в 1946 году после опубликования в «Новом мире» рассказа «Семья Иванова» писатель опять объявлен враждебным советской системе. Критику, доносительную, чекистскую, начинает небезызвестный В.В. Ермилов, объявивший Платонова «клеветником» на советскую действительность.
Писатель работает дворником, принимает заказы на разные полулитературные поделки, голодает. Умирает не достигнув пятидесятидвухлетнего возраста от истощения, туберкулезный, заушаемый, загнанный. Но писать продолжал он до конца.
«Котлован» упоминается и в «Краткой Литературной Энциклопедии», и в ряде критических статей о Платонове. Посмертно автор как бы «реабилитирован», но ни в одной из переиздаваемых его книг нет ни «Чевенгура», полностью вышедшего тоже только за рубежом, ни повести «Впрок», ни «Котлована», который нельзя было не упомянуть – ведь советская молодежь упивается этим произведением, переписывает его, молодые писатели подражают ему. Но издавать повесть и не помышляют.
«В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». Так начинается эта повесть. Конечно, вместе с потерей работы Вощев теряет и кров над головой – место в общежитии... Когда он обращается в заводской комитет рабочих, его отказываются там защищать: «Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства... О чем ты думал, товарищ Вощев?» – «О плане жизни». – «Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог проработать в клубе или красном уголке». – «Я думал о плане общей жизни...» – «Ну, и что же ты бы мог сделать?» – «Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность». – «Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс...» – «Вы боитесь быть в хвосте: он – конечность, и сели на шею». – «Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчивость – работал восемь, теперь семь – ты бы и жил – молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?» – «Без думы люди действуют бессмысленно! – произнес Вощев в размышлении».
Вощев отправляется в странствие в поисках крова, хлеба, работы, а, главное, смысла этой работы и смысла жизни. Он встречает во время своих скитаний и отдельных лиц – рабочих и инвалидов, общественных советских деятелей, и инженеров, и отряд девочек-пионерок, шествующий «под музыку молодого похода»: «...любая из этих пионерок родилась в то время, когда на полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выраженья». Наблюдает Вощев и социалистическое строительство городов: «Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? – не решается слепо верить Вощев. – Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? – сомневался Вощев на ходу».
Он поступает на строительство новой Вавилонской башни: огромного единого дома для пролетариата данного города. Пока для него лишь роют котлован, да предстоит заложить фундамент этого нового Дворца социализма – «построения социализма в одной стране». Строители-активисты недовольны новым сотоварищем по работе: «А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?» – «У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу...» – «Что же твоя истина! – сказал тот, кто говорил прежде. – Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!» – «А зачем тебе истина? – спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. – Только в уме тебе будет хорошо, а снаружи гадко». – «Вы уже, наверно все знаете? – с робостью слабой надежды спросил их Вощев». – «А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! – ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от измождения слабо росла борода».
Ведь вся истина – истина классовая, ее носитель – пролетариат и его идеологический авангард – коммунистическая партия. «Истина вырастает из общественно-производственных отношений... И строится по проекту тоскующего инженера Прушевского единственный общепролетарский дом, вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двенадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли». И во имя построения этой новой мировой Вавилонской башни проводится сплошная коллективизация, убивают миллионы «кулаков» и «подкулачников»; озверевшие, обреченные на смерть выселяемые в Приполярье и Заполярье крестьяне убивают рабочих-активистов, посланных с котлована Мировой Коммуны на проведение кампании сплошной коллективизации и раскулачивания. Во имя этой новой Вавилонской башни увечные тела пионеров едва покрыты кожей. И они, бедняги, вообще какие-то недовоплощенные. Во имя грядущего коммунизма, грядущего в неопределимом будущем счастья трудовых масс умирает комсомолка, дочь бывшей «буржуйки», тоже умершей от голода, – Настя. И Платонов как бы вторит Достоевскому: стоит ли эта грядущая коллективистическая Осанна хотя бы одной слезинки умученной и духовно растленной Насти?
Да и что представляет этот грядущий коммунистический рай? Этот грядущий Мировой Дом Пролетариата, для которого ныне роют лишь чудовищный котлован? Один крестьянин-середняк мудро характеризует грядущий социалистический Советский Союз Мира, как капиталиста-монополиста, жесткого и жестокого: «Колхоз нам не годится... Ну, что же, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством!»
Характерно: «вожди» пролетариата, большие и малые, не собираются вселяться в Единый Пролетарский Дом: они строят вокруг котлована грядущего пролетрая небольшие индивидуальные коттеджи. Этот новый класс «много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде, накопил уже достаточно достижений и потому научно хранил свое тело – не только для личной радости существования, но и для близких рабочих масс». Вожди боятся лишь доносов и подсидки со стороны других вождей и активистов. Так, профсоюзный вождь Пашкин хорошо помнит, как «целый месяц шло расследование, даже к имени придирались: почему Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно»... Действительно, как можно в своем имени совместить и бессмертного Владимира Ильича и «Иудушку» Льва Троцкого?!
Думается, комментарии излишни: большой сюрреалистический мастер сюжета и языка, перекликающийся явно с Достоевским, в особенности с «Записками из подполья» и «Бунтом» Ивана Карамазова, поэт и мыслитель Андрей Платонов не мог прийтись ко двору строителям советского и всемирного котлована...