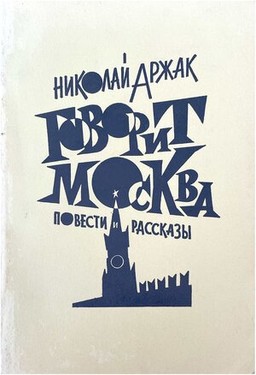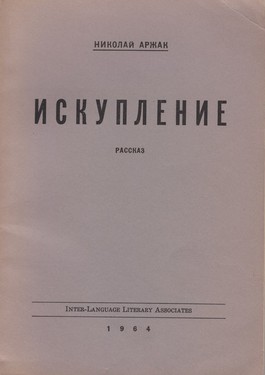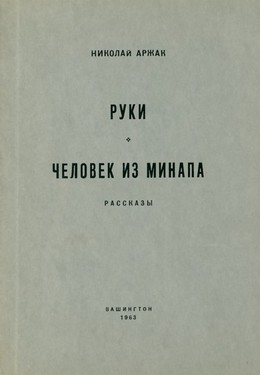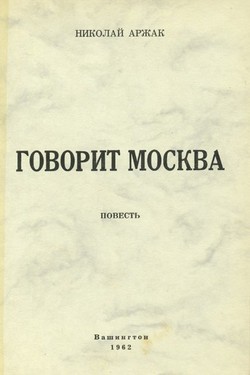В России нет свободы печати – но кто скажет,
Что в ней нет и свободы мысли?
Александр Есенин-Вольпин
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем…
Анна Ахматова
Осудили. Печать улюлюкала. Протесты Запада, в том числе и протесты западных писателей-коммунистов, остались, в сущности, без ответа. На суде отклонили показания и ряда советских писателей. Когда на суде над Синявским-Терцем и Аржаком-Даниэлем судья бросил Даниэлю упрек: «Ваши допущения идут от одного политического образа к другому», - Даниэль с мужественным достоинством ответил: «О том, о чем я пишу, молчат и литература и пресса. А литература имеет право на изображение любого периода и любого вопроса. Я считаю, что в жизни общества не может быть закрытых тем».
Да, и п о л и т и к а входит составной частью в творчество Аржака. Ведь каждый живет в обществе, каждый дышит воздухом своей эпохи и своего народа. И Даниэль на суде прямо говорил об этом, называя даже ту эпоху, к которой относятся его произведения: годы Сталина и годы Хрущева, как потенциального претендента в новые отцы народа. Он прибавлял при этом, что многие произведения советских авторов послесталинской эпохи, опубликованные в советской печати, в какой-то мере идут даже дальше его, Аржака, в деле разоблачения последствий к у л ь т а л и ч н о с т и. И только избегают некоторых тем и приемов письма, «а в жизни общества не может быть закрытых тем».
Но перед автором стояли задачи, идущие несравненно дальше, а, главное, глубже, чем в обычных и привычных продуктах производства советского литературного цеха. Отнюдь не изготовление подкрашенных картинок для элементарного учебника советского (или антисоветского) обществоведения. Нет, разными средствами, разными литературными приемами, но Аржак стремится всегда к одной, по существу, основной задаче: наиболее полному и яркому раскрытию внутреннего человека, всегда и повсюду живущего в каждом из нас «человека из подполья». В этом Аржак – прямой наследник основной линии русской литературы – Гоголя, Достоевского, Розанова. Конечно, язык, приемы письма, смелость мысли Аржака не имеют ничего общего с убогим и отставшим на двести лет от общеевропейского развития литературы дифирамбическим социалистическим реализмом.
Уже наиболее несовершенный художественно, самый ранний по времени написания, рассказ «Руки» - интересный психологический этюд. Автор отнюдь не становится в позитуру обличителя, моралиста. От всяческих оценок отказывается раз и навсегда. Просто изнутри, словами самого героя рассказа (прием, применяемый автором во всех его произведениях), - рисует душевное состояние палача по партназначению: «Работка не так, чтобы трудная, а и легкой не назовешь». И образ искреннего твердокаменного коммуниста, низового партийного работника вылеплен крепко, уверенной художнической рукой. Ну, тяжко. Ну, противно. Без большой водки и обойтись нельзя. Но навеки вколочен, как «Отче наш», незыблемый принцип: «Н-а-д-о. Не кончишь его сейчас, он, гад, всю Советскую Республику порушит». И автор не осуждает: он ж а л е е т своего героя. Рассказ был бы совсем хорошим, если бы не концовка его: «рационалистическое» объяснение произошедшего, отнюдь художнически не убедительное.
Любопытно, что и прокурор, и судья, и общественные обвинители от союзов советских писателей СССР и РСФСР ставили в вину Аржаку-Даниэлю… яркость и художественность этого рассказа. В своем заключительном слове на процессе Даниэль недоумевал: «Кедрина сказала: «Вы посмотрите, с какой вообще несвойственной ему выразительностью и яркостью Даниэль изобразил сцену расстрела». Прошу, очень прошу, вдумайтесь, что вы сказали: яркость и выразительность описания служат для доказательства антисоветской сущности»…
«Говорит Москва» - это отнюдь не фантастический реализм. Скорее, его можно назвать реализмом экспериментальным. «Меня увлекло, - рассказывал Аржак-Даниэль на процессе, - что при фантастическом допущении – День открытых убийств – можно показать психологию и поведение людей. …В 1960-61 гг., когда была написана эта повесть, я – и не только я, но и любой человек, серьезно думающий о положении в нашей стране, - был убежден, что страна находится накануне вторичного установления нового культа личности. Со смерти Сталина прошло не так уж много времени. Мы все хорошо помнили то, что называется «нарушениями социалистической законности». И вот снова я увидел все симптомы: снова один человек знает все, снова возвеличивается одна личность, снова одна личность диктует свою волю и агрономам, и художникам, и дипломатам, и писателям. Мы видели, как снова замелькало со страниц газет и на афишах одно имя, как снова самое банальное и грубое выражение этого человека преподносится нам, как откровение, как квинт-эссенция мудрости»… И действительно: если допустить, что свыше объявлен День открытых убийств, то все течение событий, поведение людей, их взаимоотношения, их рассуждения - абсолютно реальны и ничем не отличаются от течения событий во время любой советской кампании. «Через день в «Известиях» появилась большая редакционная статья «Навстречу дню открытых убийств». В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: «Растущее благосостояние – семимильными шагами - подлинный демократизм – только в нашей стране все помыслы – впервые в истории – зримые черты – буржуазная пресса….». Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию, а потому запрещаются поджоги и взрывы. Кроме того, Указ не распространялся на заключенных. Ну, вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял, но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи – привычно-торжественный, буднично-высокопарный – внес успокоение. Ничего особенного: «День артиллерии», «День советской печати», «День открытых убийств»… Транспорт работает, милицию трогать не велено – значит порядок будет. Все вошло в свою колею». И, как это чаще всего бывает, и эта очередная кампания не принесла заметных, ощутимых результатов. К ней, в общем, отнеслись инертно. Даже личные счеты чаще всего не свели. Ужасное, преступное, клеветническое утверждение, невероятное экспериментальное утверждение (так говорили на процессе и прокурор, и судья, и общественные обвинители)? Нет, почему же: Даниэль на процессе резонно возражал, указывая, «что возможно повторение страшных времен культа Сталина, что это может повториться. А тогда…. происходили события куда более страшные, чем описано у меня – массовые репрессии, высылка и уничтожение целых народов. Описанное мною по сравнению с этим – детские игрушки»…
И что же: привычные ко всему советские люди оказались много, много лучше, чем предполагалось: День открытых убийств, вся эта грандиозная кампания сорвалась. Но показ психологии персонажей рассказа, показ их реакции на новое постановление, показ их поведения – подлинный высокий реализм. Экспериментальный метод автора позволил обострить все ситуации, показать жизнь под новым и неожиданным углом зрения. И – вопреки мнению шемякина суда, осудившего писателей на каторгу, - следует сказать, что советские люди показаны в повести скорее благожелательно, отнюдь не карикатурно.
«Человек из МИНАП’а» - также написан в плане экспериментально реализма. И вовсе не такого уже фантастического. Ведь вопрос о планировании деторождения, даже об определении не только пола, но и способностей зарождаемого нового гражданина – вопрос, серьезно обсуждаемый современной наукой. Ну, прозаик, конечно, не биолог-генетик, не врач – его способ показа явлений иной. На суде Даниэль говорил по поводу этого рассказа: «Нет никаких оснований говорить, что рассказ направлен против морали и этики советского общества. Почему я его написал? Среди моих друзей много ученых, один из них мне рассказал о шумихе вокруг Башьяна и Лепешинской (я не равняю эти два имени), рассказал, что сенсации нанесли вред нашей науке. По поводу этой шумихи, а не по поводу этой науки и был написан этот рассказ». Заметим, кстати, что Ольга Борисовна Лепешинская – явление того же порядка, что и Т.Д. Лысенко, кстати написавший основную монографию о Лепешинской.
Наиболее значительным произведением Аржака-Даниэля является, несомненно, «Искупление». Идея ответственности каждого человека за поступки всех людей – и ответственности всех за каждого – одна из краеугольных идей большой русской литературы. И уже повесть «Говорит Москва» заканчивалась у Аржака знаменательными словами: «Я иду и говорю себе: “Это - твой мир, твоя жизнь, и ты – клетка, частица ее. Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим – ты в ответе за других”. И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность. Это говорит Москва». Эта идея – ответственности всех за каждого и каждого за всех, ответственности не только за содеянное, но и за то, что человек или общество не помешали сделать зло, воздержались – основной стержень «Искупления»: «Вы действительно ничего не понимаете… Во-первых, я категорически заявляю, что каждый человек хоть раз в жизни причинил вред другому: и вы, и он, и я. Во-вторых, - и это самое главное – вы виноваты в том, чего не сделали. А что, разве вас не преследуют призраки несовершенного? Разве вам не мерещатся по ночам эмбрионы поступков, жертвы абортов – начинания, которым вы сделали искусственный выкидыш». И ряд героев повести мучит не то, что они с д е л а л и, а то «что они могли сделать, да не сделали! О чувстве вины за бездействие». И искупление – в том, чтобы безвинно принять на себя всю тяжесть незаслуженного обвинения – и незаслуженного наказания. И эта идея – не только идея персонажей «Искупления»: в своем последнем слове на суде Даниэль сказал, что написал эту повесть потому, что считает, «что все члены общества ответственны за то, что происходит, каждый в отдельности и все вместе».
Разве это – клевета на ту или иную действительность, хотя бы и советскую? Ведь это – исконная идея всей христианской, всей европейской культуры. Ведь Даниэль-Аржак прямо говорит не о социально-политических условиях того или иного времени – они служат ему только фоном, только конкретным материалом для лепки образов и обстановки их действий. Аржак рисует внутреннего человека, говорит о том, что свобода и рабство – внутри нас самих, если и зависят, то отнюдь не в столь значительной степени, как мы полагаем, от внешних факторов: «Товарищи! Они продолжают нас репрессировать! Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключённые! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, это ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами. Государство – это мы. ....Погодите, куда вы? Не убегайте! Всё равно вы никуда не убежите! От себя не убежите!»
Только обретя внутреннюю свободу, человек становится поистине свободным. Вольный или подневольный внешне - он свободен по существу. От самого себя не убежишь. От внутреннего рабства не избавишься ничем извне.
Заключённый Аржак-Даниэль внутренне свободнее своих судей. Он обрёл ту внутреннюю свободу, которая только и может быть залогом подлинной творческой свободы. Он обрёл подлинную свободу духа, свободу мысли, свободу-совесть: он всею душою понял ту древнюю, но вечно новую истину, что подлинная личная свобода, свобода, творящая жизнь – есть и с к у п л е н и е. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесёт много плода».
И гордо, независимо, поистине человечно звучат последние слова автора «Искупления» на суде: «Я хочу ещё сказать, что никакие уголовные статьи, никакие обвинения не помешают нам - Синявскому и мне - чувствовать себя людьми, любящими свою страну и свой народ. Это всё. Я готов выслушать приговор».
"