- Roman Grynberg
-
Authors
- Review
-
Source Type
- Poem without a Hero Review
- Poem without a Hero Review
-
Publications
- 1963
-
Date
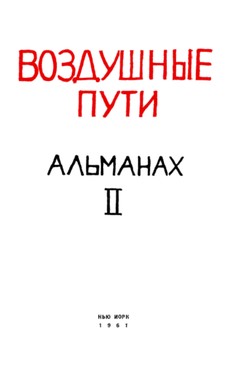
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин
Читая «Поэму без героя» А. Ахматовой, почти сразу замечаешь, что ударное слово в ней – бес. И по значению[,] и по звуковой форме это общеславянское слово необычайной выразительности. Ученый Миклошич в своей сравнительной грамматике сближает этимологически это слово с глаголом «бояться».
Рассказывают, что Дега спросил как-то Малларме, в чем смысл его загадочных стихов, на что поэт ответил: «Не идеями делается поэма, а словами». Здесь было уместно вспомнить старую остроту.
В предисловии к Поэме автор пишет: «что никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов (поэма) не содержит». «Еже писах – писах».
В последней строчке пушкинского «Домика в Коломне» сказано почти дословно то же, что и в обращении Ахматовой к читателю: «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего»... Читатель прочел шуточную петербургскую повесть Пушкина, «Домик в Коломне», и ждет «нравоучения», чтобы лучше понять, что хотел сказать поэт. Но напрасно, – Пушкин поставил три точки.
«В этом предложении – ничего больше не “выжимать” из рассказа есть гениальное лукавство» – говорит В.Ф. Ходасевич в своей зоркой заметке о петербургских повестях Пушкина, написанной полвека тому назад.
Конечно, Ахматова знает, как знал и Пушкин, что «выжимать» Поэму будут. А с годами толков о Поэме будет больше, и она обрастет легендой, и народит любознательных, как говорится, экзегетов. Схожа в мире судьба всех шедевров: «Поэма без героя» – такого класса вещь.
И Ахматова в своем обращении к читателю словно предостерегает его «не копать рядом»; не придумывать тематики[,] чуждой Поэме; не навязывать ей посторонних идей; не искать логического порядка там, где его быть не может, ибо у Поэмы своя логика, хотя бы и парадоксальная, где может царить бессвязность и противоречие. Часто случается, что даже самые робкие критики, не справляясь с искушением, наводят свой собственный порядок в поэтическом произведении, забывая, что закваска поэзии иррациональна, ибо это есть поэзия.
Часть вторая Поэмы названа игрецким термином «Решка». Он означает в «орлянку» проигрыш и неудачу. И этот раздел, вставленный в середине, между частью первой «1913. Петербургская повесть» и Эпилогом, и на самом деле «Интермеццо», где поэт бегло и горестно повествует гибкими ямбами о том, что Поэму в Советской стране не удается издать. Она не понята, не понятна и, потому, не нужна.
Тут же в двух строфах (в ХII-й и ХIII-й) поэтесса, как ворожея, зазывает читателя разгадать загадку, заданную ею в только что прочитанной «1913. Петербургской повести».
<…>
Я согласна на неудачу
И смущенье свое не прячу
У шкатулки ж тройное дно.
Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила
И зеркальным письмом пишу,
И другой мне дороги нету –
Чудом я набрела на эту
И расстаться с ней не спешу.
Мы не занимаемся исследованием.
Мы читали и перечитываем Поэму и теперь хотим писать о впечатлении от троп[ов] и образов, ритма, рифм, и слов. И слова, наконец, раскрылись, как художественное произведение. «Слово имеет все свойства художественного произведения» – говорит знаменитый А. А. Потебня, и говорит верно.
Ключ в музыке дается в начале нотной строки. Этот знак определяет название и высоту последующих нот. У Ахматовой ключ, думается, нужно искать в письме к Н. (к никому?). Письмо-введение к поэме и поэт говорит: «Осенью 1940 года, разбирая мой старый (впоследствии погибший во время осады) архив, я наткнулась на давно бывшие у меня письма и стихи, прежде не читанные мною (“Бес попутал в укладке рыться”). Они относились к трагическому событию 1913 г., о котором повествуется в “Поэме без героя”».
Итак, ключ дан. Ключ – катастрофический. Не в таком ли смысле Вячеслав Иванов называл романы-трагедии Достоевского катастрофическими? Может, здесь уже сказалось родство Ахматовой с первым русским драматистом? К преемству мы сейчас вернемся.
Сначала перечислим имена, которыми поэт клеймит, неизвестно как проникшего, непрошенного гостя «со страшным и дымным лицом»:
Бес; Владыка Мрака; демон; ровесник Мамврийского дуба, вековой собеседник луны; Мефистофель; изящнейший сатана; а от него пошли – петербургская чертовня; достоевский и бесноватый город; адская арлекинада; и козлоногая; и беснуется и не хочет узнавать себя человек; и, наконец, словно та одержимая бесом.
Постой,
Ты, как будто, не значишься в списках,
В калиострах, магах, лизисках,
Полосатой наряжен верстой
Здесь мы узнаем с детства знакомого пушкинского беса;
там верстою небывалой
он торчит передо мной;
из стихотворения «Бесы» (1830).
В строфе II 1-й 2-ой части Ахматова еще раз вспоминает своих странных новогодних гостей:
Я ответила: там их трое –
Был один наряжен верстою
А другой, как демон одет…
В другой пушкинской петербургской повести, драматической и страстной, «Пиковой даме», мы читаем жуткую строчку: «в это время кто-то с улицы взглянул к нему в окно, – и тотчас отошел», а у Ахматовой:
Кто стучится? Ведь всех впустили
Это гость зазеркальный или
То, что вдруг мелькнуло в окне
<…>
Дальше за многоточием:
Шутки ль месяца молодого
Или вправду там кто-то снова
Между печкой и шкафом стоит.
Бледен лоб и глаза закрыты...
Это почти дословно положение за минуту до самоубийства инженера-строителя Алексея Нилыча Кириллова из «Бесов» Достоевского.
Каким удивительным образом в этом месте Поэмы перекликаются Пушкин с Достоевским.
Незадолго до того, умнейший Кириллов в ночной беседе с Николаем Ставрогиным – оба бесы-иерархи – произнес на своем обрывистом языке: «Жизнь есть, а смерти нет вовсе», на что Ахматова в роли «античного хора» вторит:
Смерти нет – это всем известно,
Повторять это стало пресно...
Родство Ахматовой с Достоевским теперь несомненно. Но не лишне ли подчеркнуть, что близость ее с Пушкиным глубже и прочней? Это и без того хорошо понято всеми, кто читал Ахматову. И достаточно взглянуть на те два слова подзаголовка к Поэме, чтобы понять, что задумал автор. Они, два слова – Петербургская повесть – действуют на нас неотразимо. Они переносят нас мгновенно в сверхъестественный пушкинский круг. Пушкин был тот, кто первый создал неразгаданный мир Петербурга, где злобствующие бесовские силы не дают жизни «простых людей течь беспрепятственно». Повестям присущ один и тот же петербургский воздух и «дымок», нависший над «топкими берегами». Но дело не только в них...
Как когда-то хорошо писал Ходасевич: «Для тех, кто умеет читать и любить Пушкина, “петербургские” повести его слагаются в замкнутый, неразрывный цикл. “Домик в Коломне”, “Медный всадник” и “Пиковая дама” составляют тот магический круг, в который поэт нас вводит силой таинственного своего гения».
Что общего в повестях? Ходасевич смог это открыть в 1912 г., когда сначала П.Е. Щеголев, а за ним в 1913 г. Н.О. Лернер опубликовали, перепечатав из альманаха «Северные цветы» на 1829 г., повесть «Уединенный домик на Васильевском» за подписью Тита Космократова.
Оказалось, что под этим псевдонимом скрылся некто В.П. Титов, молодой литератор. Он, в числе других, в гостях у Карамзиных в 1829 г., слышал, как Пушкин рассказывал историю про «уединенный домик на Васильевском». Придя домой, он в ту же ночь записал рассказ Пушкина, а на утро отправился к нему, чтобы исправить запись.
Мы не станем пересказывать «Уединенный домик». Скажем только, что повесть была первой, самой ранней вариацией всех других петербургских повестей Пушкина. «Уединенный домик» это – «черновой замысел» и основная тема. Во всех повестях жизнь «простых людей» нарушается вмешательством враждебных сил. И конфликт от вторжения нежданных и непрошенных «гостей» кончается трагически. Только в «Домике в Коломне» дается комическая развязка. Судьба Германна в «Пиковой даме», Евгения в «Медном всаднике» и Павла в «Уединенном Домике» одна и та же: они сходят с ума. И тема эта никогда больше не покидала Пушкина.
Ахматова продолжает в своем письме-введении:
«Затем, как известно каждому грамотному человеку <…> и я совсем перестала писать стихи, и все же в течение 15 лет эта поэма неожиданно, как припадки какой-то неизлечимой болезни, вновь и вновь настигала меня (случалось это всюду – в концерте при музыке, на улице, даже во сне), и я не могла от нее оторваться, дополняя и исправляя по[-]видимому оконченную вещь».
«Но была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут».
«Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой»
Не для того поэт пишет поэму, чтобы излить свои чувства, а для того, чтоб от них освободиться. И поэма ему не служит для того, чтобы показать читателю свою исключительную личность, а служит ему, чтобы освободиться от нее.
Однако только тот, кто имеет личность и чувства, знает, что значит освобождения от них.
"