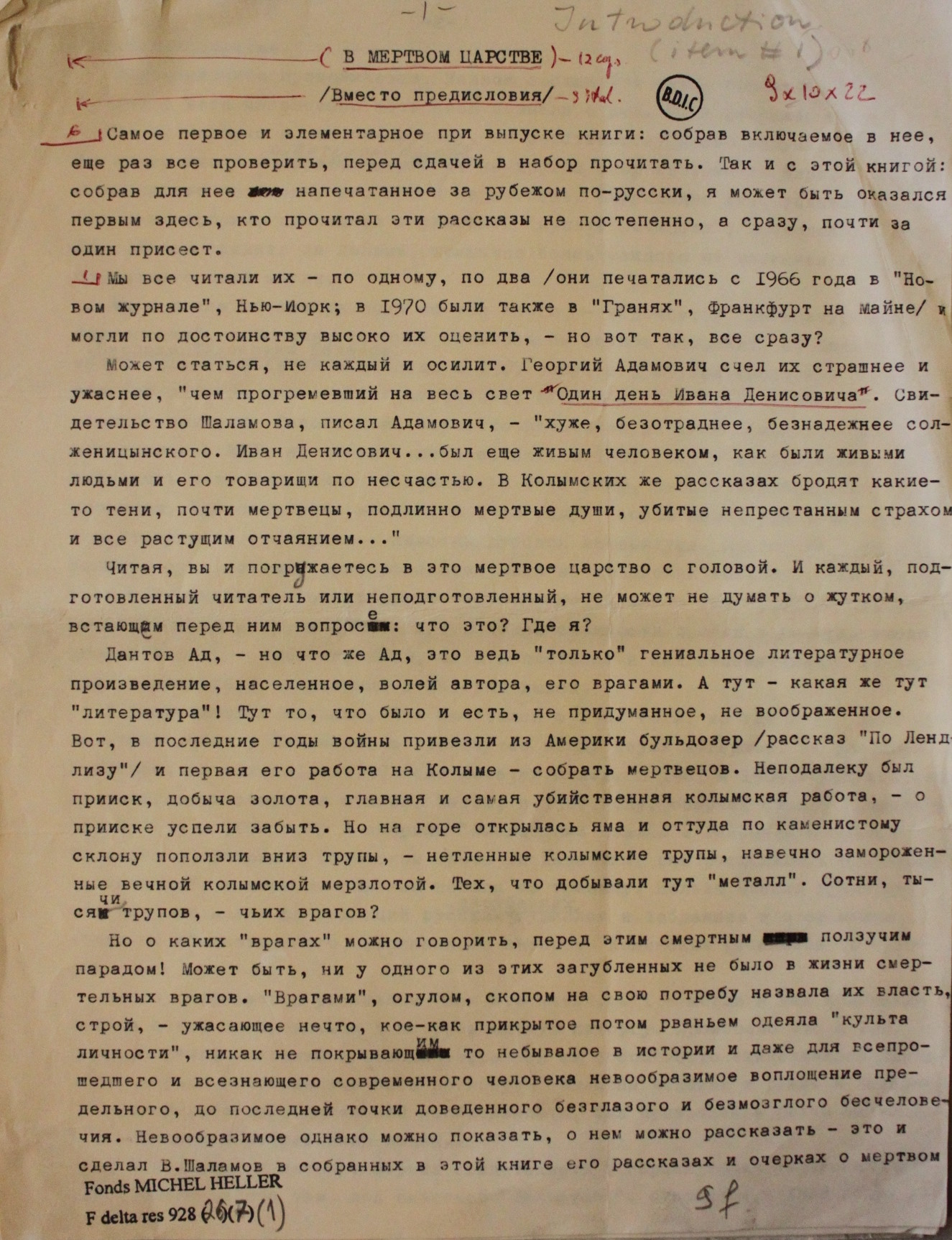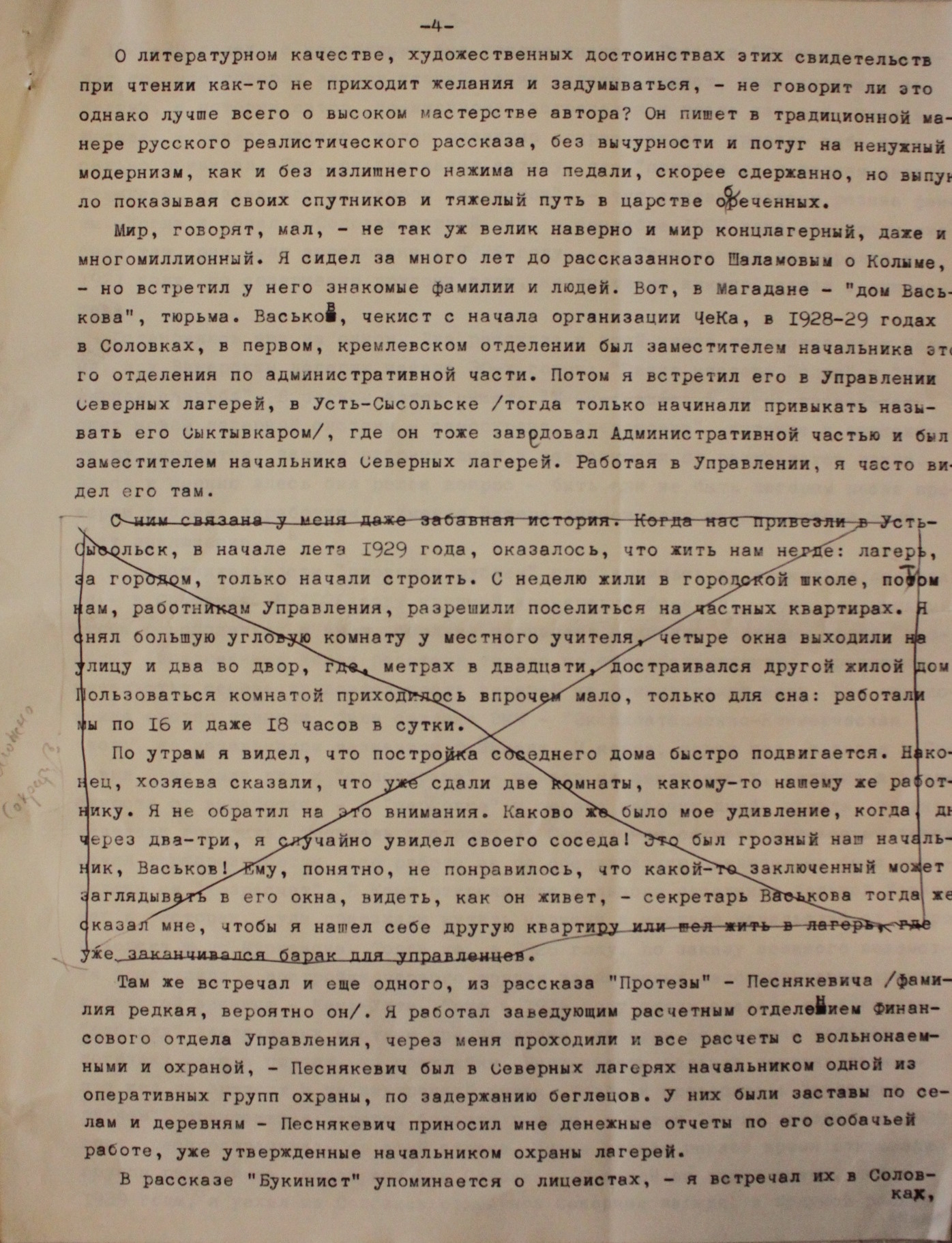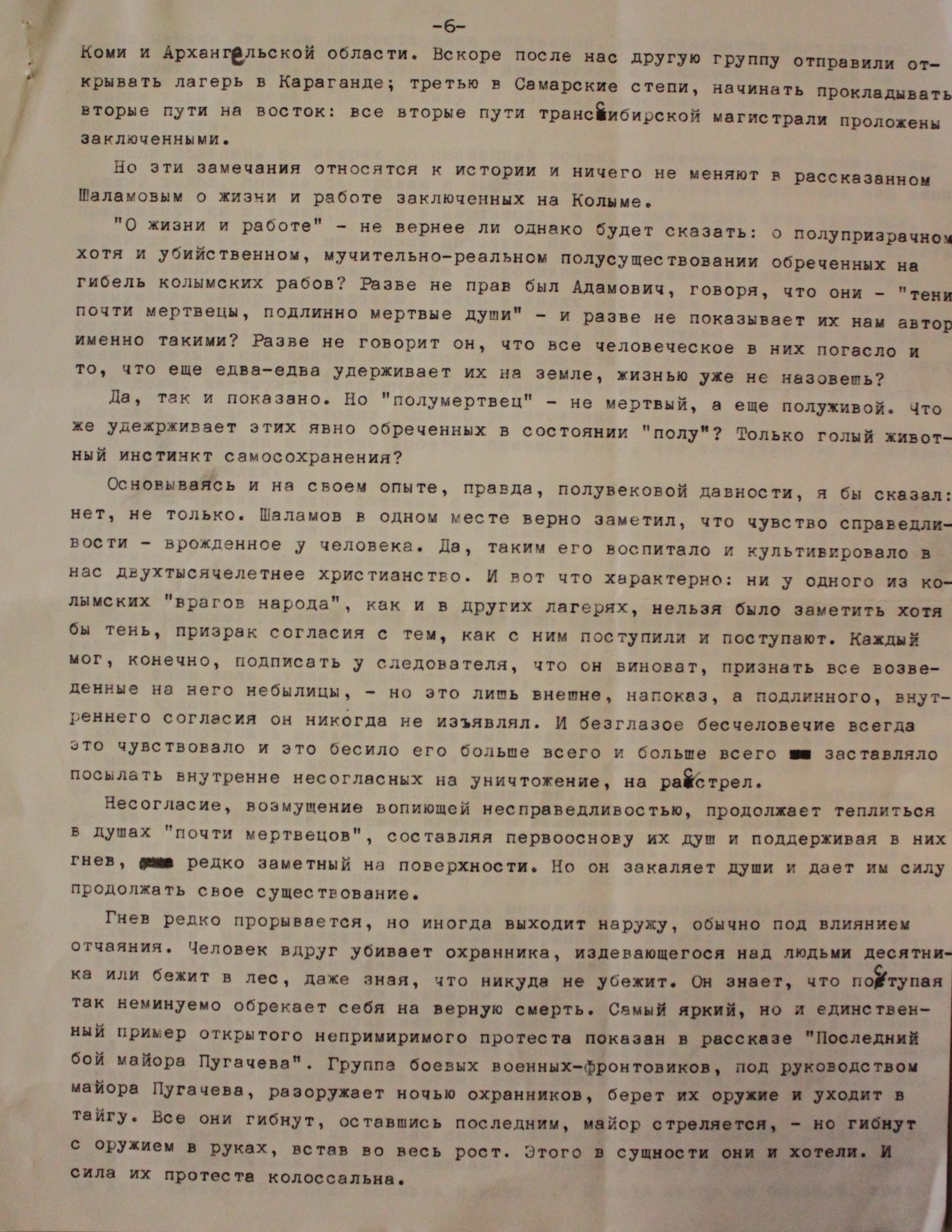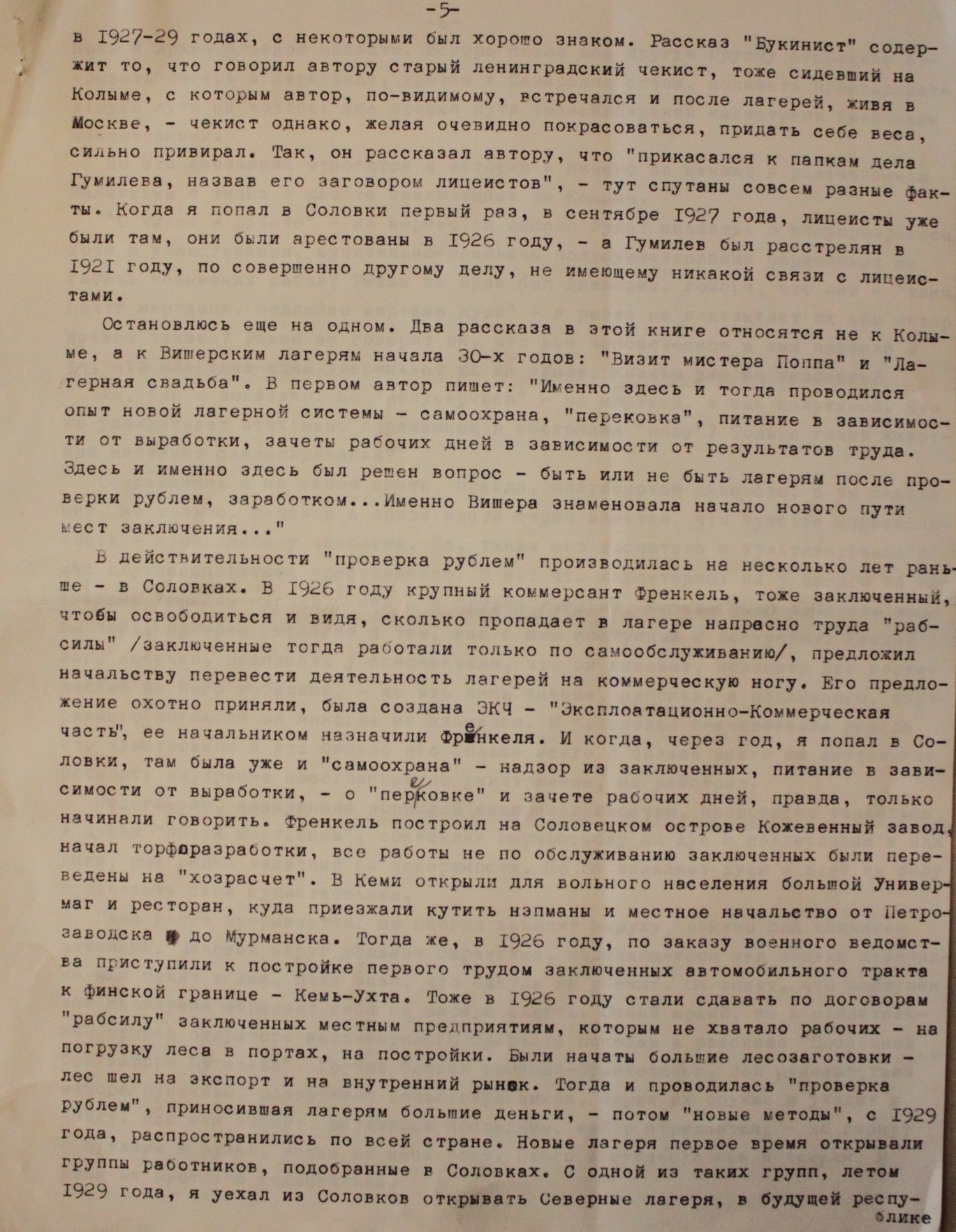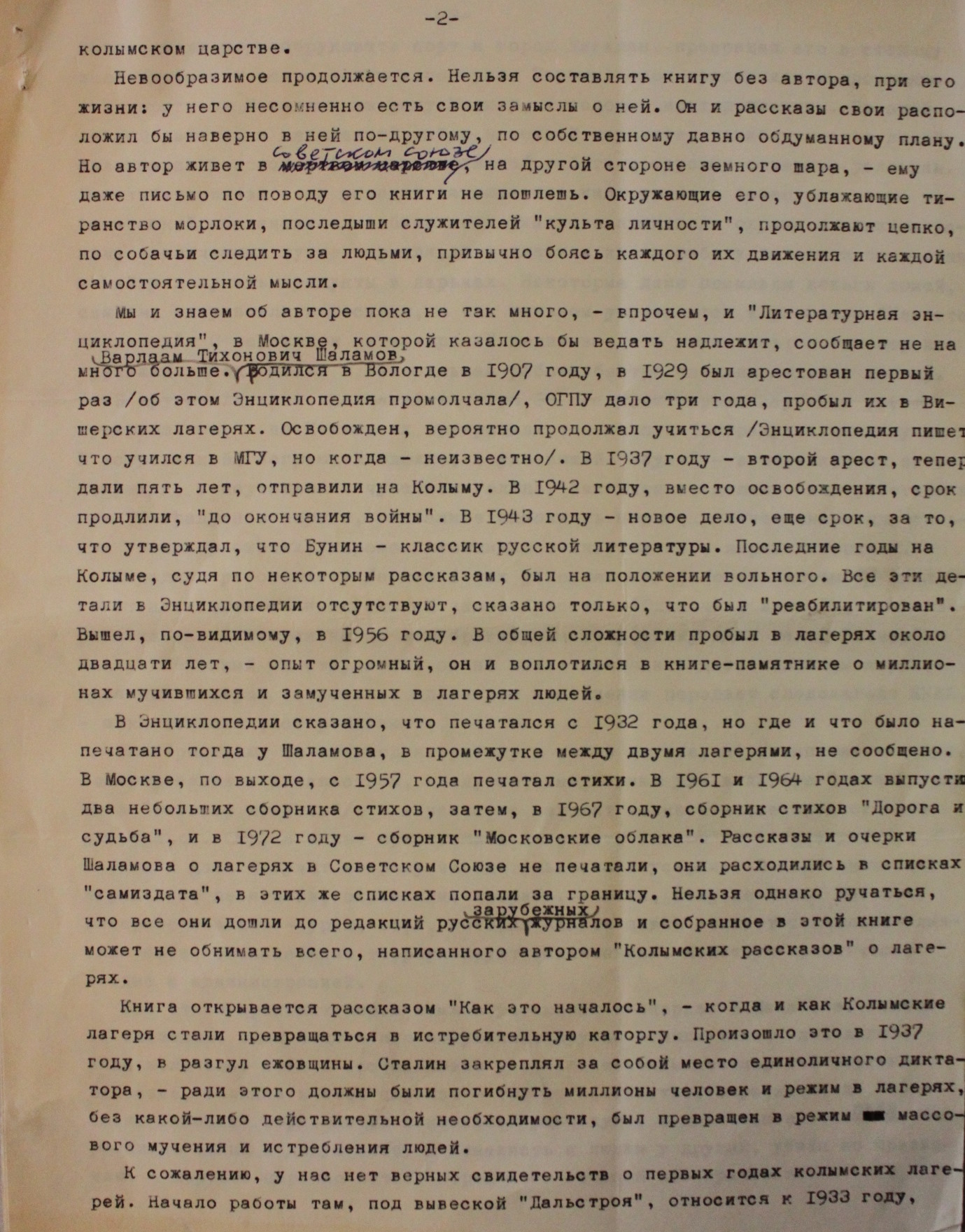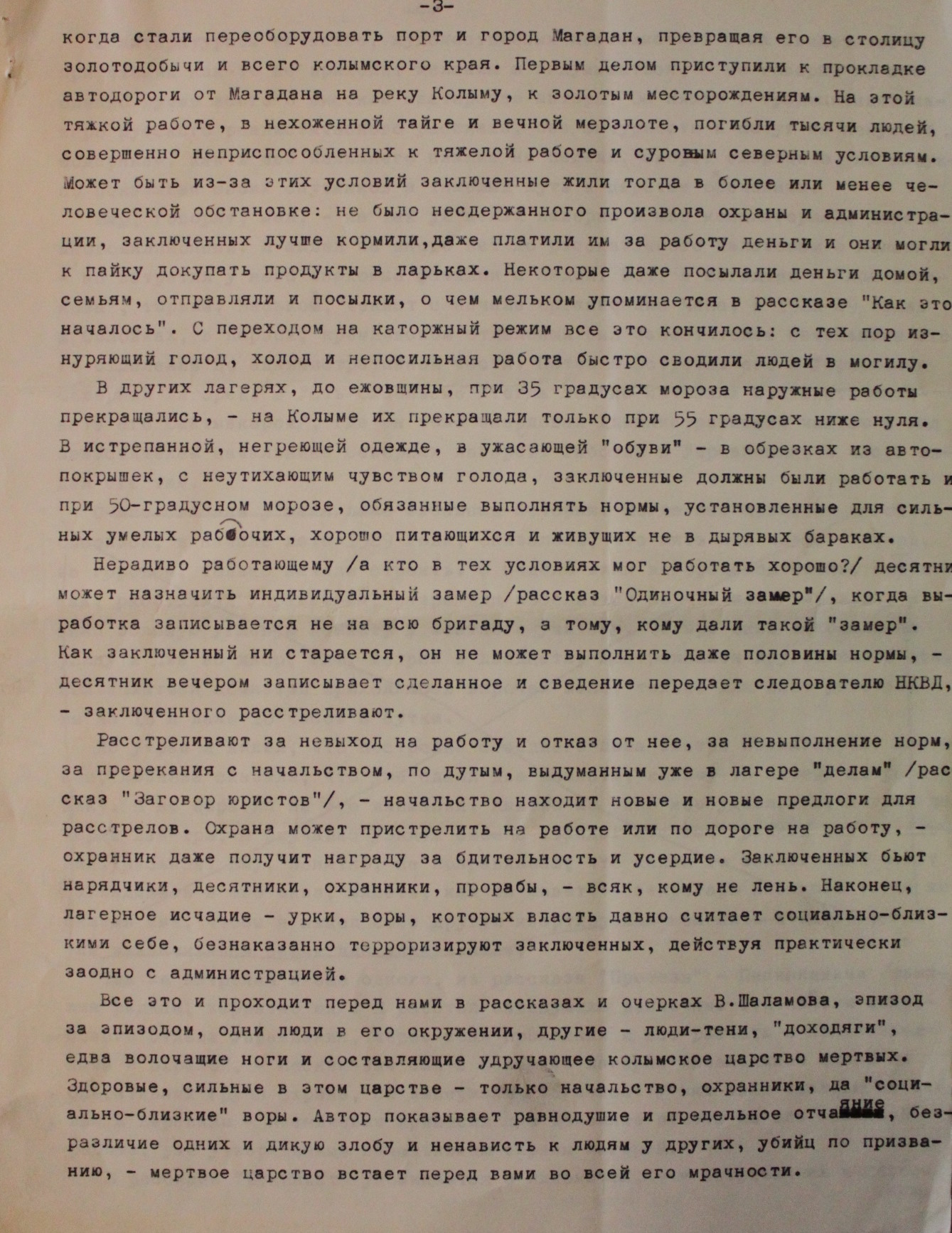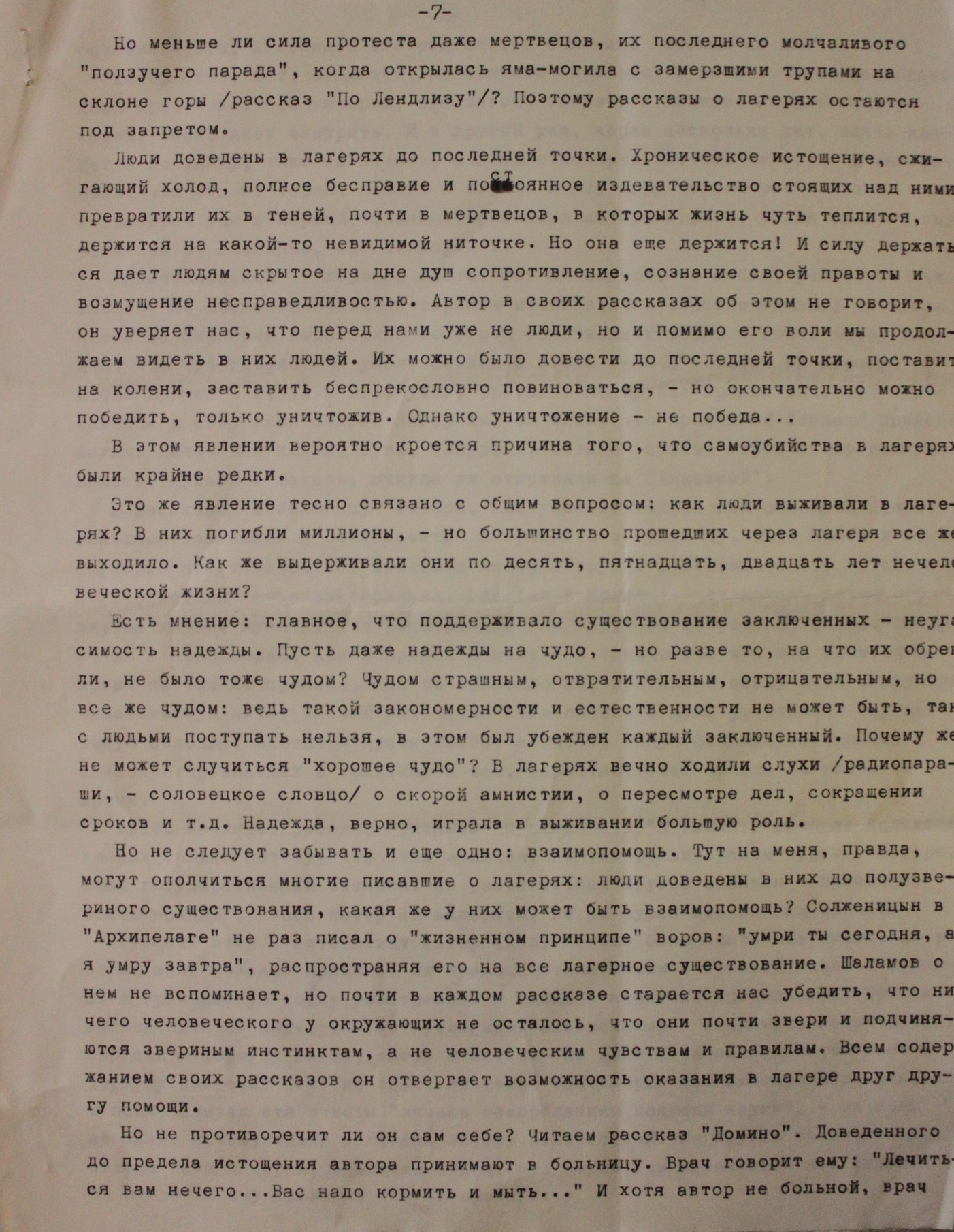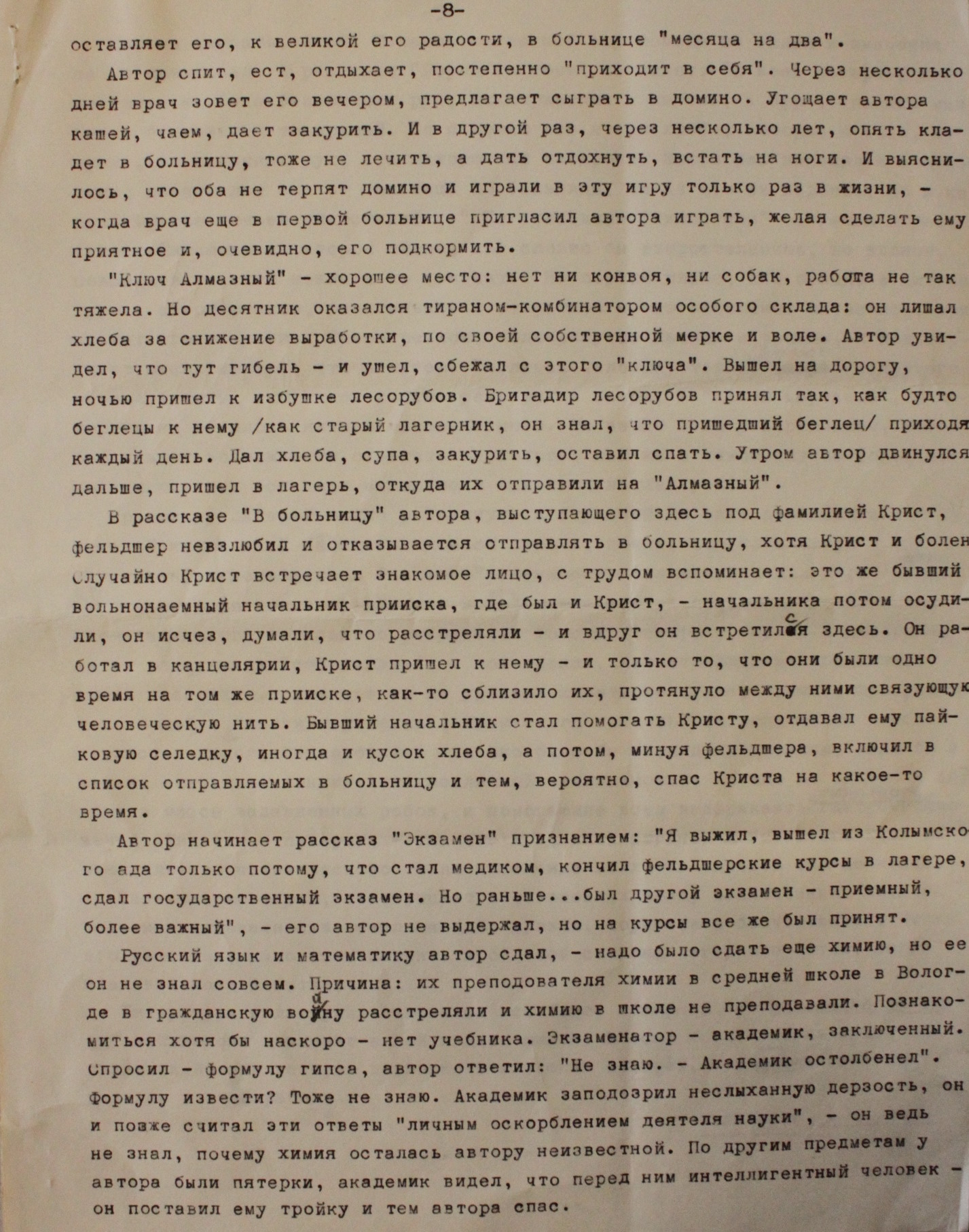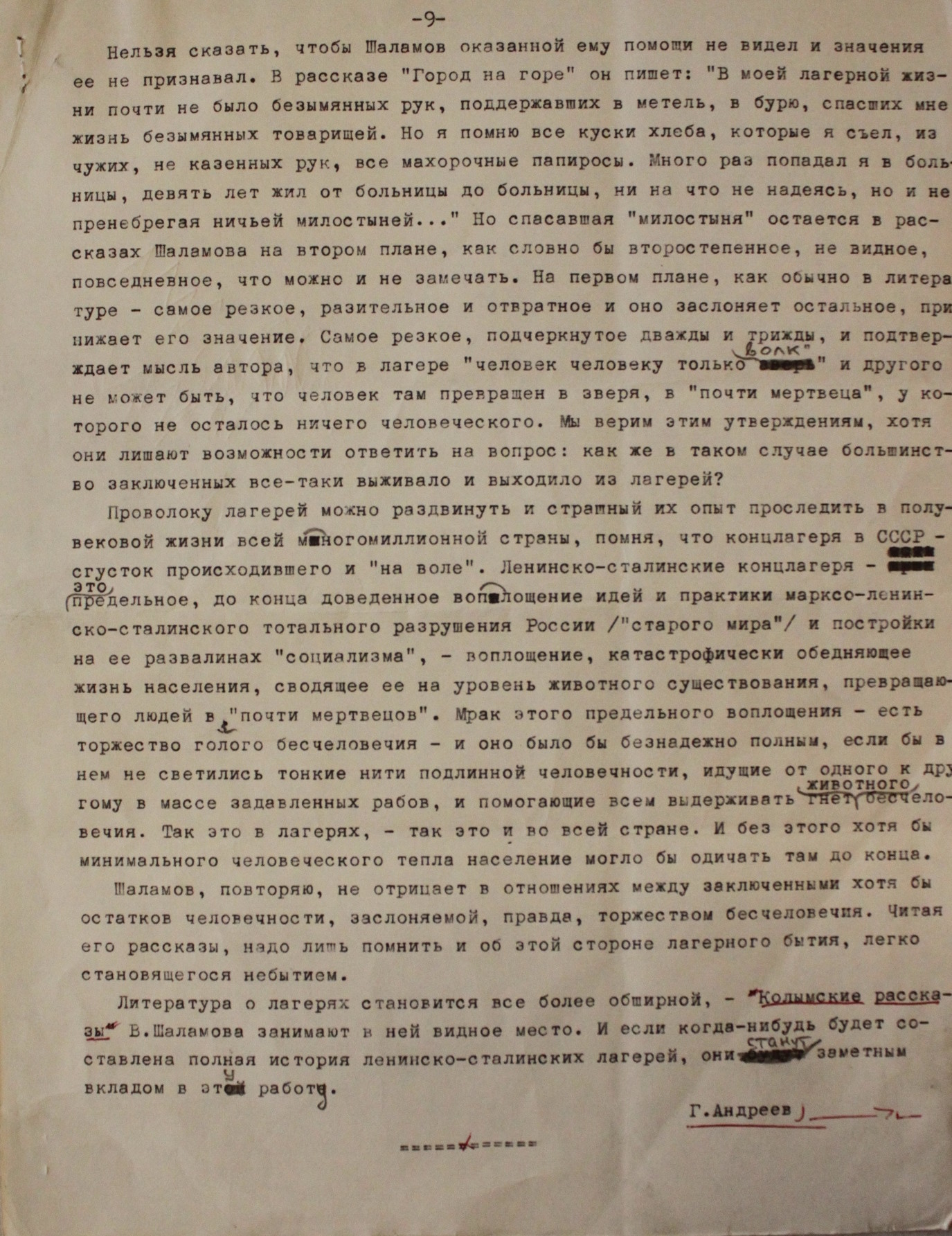Gennady Andreev. In the Kingdom of Dead (instead of a preface)

- Varlam Shalamov
- Gennady Khomiakov
-
Authors
- Paratext
-
Source Type
- Kolymskie rasskazy Preface
-
Publications
- 1979
-
Date
Самое первое и элементарное при выпуске книги: собрав включаемое в нее, еще раз все проверить, перед сдачей в набор прочитать. Так и с этой книгой: собрав для нее напечатанное за рубежом по-русски, я может быть оказался первым здесь, кто прочитал эти рассказы не постепенно, а сразу, почти за один присест.
Мы все читали их – по одному, по два (они печатались с 1966 года в «Новом журнале», Нью-Йорк; в 1970 были также в «Гранях», Франкфурт на Майне) и могли по достоинству высоко их оценить, – но вот так, все сразу?
Может статься, не каждый и осилит. Георгий Адамович счел их страшнее и ужаснее, «чем прогремевший на весь свет “Один день Ивана Денисовича”». Свидетельство Шаламова, писал Адамович, – «хуже, безотраднее, безнадежнее солженицынского. Иван Денисович … был еще живым человеком, как были живыми людьми и его товарищи по несчастью. В Колымских же рассказах бродят какие-то тени, почти мертвецы, подлинно мертвые души, убитые непрестанным страхом и все растущим отчаянием…».
Читая, вы и погружаетесь в это мертвое царство с головой. И каждый, подготовленный читатель или неподготовленный, не может не думать о жутком, встающем перед ним вопросе: что это? Где я?
Дантов Ад, – но что же Ад, это ведь «только» гениальное литературное произведение, населенное, волей автора, его врагами. А тут – какая же тут «литература»! Тут то, что было и есть, не придуманное, не воображенное. Вот, в последние годы войны привезли из Америки бульдозер (рассказ «По Лендлизу») и первая его работа на Колыме – собрать мертвецов. Неподалеку был прииск, добыча золота, главная и самая убийственная колымская работа, – о прииске успели забыть. Но на горе открылась яма и оттуда по каменистому склону поползли вниз трупы, – нетленные колымские трупы, навечно замороженные вечной колымской мерзлотой. Тех, что добывали тут «металл». Сотни, тысячи трупов, – чьих врагов?
Но о каких «врагах» можно говорить, перед этим смертным ползучим парадом! Может быть, ни у одного из этих загубленных не было в жизни смертельных врагов. «Врагами», огулом, скопом на свою потребу назвала их власть, строй, – ужасающее нечто, кое-как прикрытое потом рваньем одеяла «культа личности», никак не покрывающим то небывалое в истории и даже для всепрошедшего [sic!] и всезнающего современного человека невообразимое воплощение предельного, до последней точки доведенного безглазого и безмозглого бесчеловечия. Невообразимое однако можно показать, о нем можно рассказать – это и сделал В. Шаламов в собранных в этой книге его рассказах и очерках о мертвом колымском царстве.
Невообразимое продолжается. Нельзя составлять книгу без автора, при его жизни: у него несомненно есть свои замыслы о ней. Он и рассказы свои расположил бы наверно в ней по-другому, по собственному давно обдуманному плану. Но автор живет в Советском Союзе, на другой стороне земного шара, – ему даже письмо по поводу его книги не пошлешь. Окружающие его, ублажающие тиранство морлоки, последыши служителей «культа личности», продолжают цепко, по собачьи следить за людьми, привычно боясь каждого их движения и каждой самостоятельной мысли.
Мы и знаем об авторе пока не так много, – впрочем, и «Литературная энциклопедия», в Москве, которой казалось бы ведать надлежит, сообщает не на много больше. Варлаам Тихонович Шаламов родился в Вологде в 1907 году, в 1929 был арестован первый раз (об этом Энциклопедия промолчала), ОГПУ дало три года, пробыл их в Вишерских лагерях. Освобожден, вероятно продолжал учиться (Энциклопедия пишет, что учился в МГУ, но когда – неизвестно). В 1937 году – второй арест, теперь дали пять лет, отправили на Колыму. В 1942 году, вместо освобождения, срок продлили, «до окончания войны». В 1943 году – новое дело, еще срок, за то, что утверждал, что Бунин – классик русской литературы. Последние годы на Колыме, судя по некоторым рассказам, был на положении вольного. Все эти детали в Энциклопедии отсутствуют, сказано только, что был «реабилитирован». Вышел, по-видимому, в 1956 году. В общей сложности пробыл в лагерях около двадцати лет, – опыт огромный, он и воплотился в книге-памятнике о миллионах мучившихся и замученных в лагерях людей.
В Энциклопедии сказано, что печатался с 1932 года, но где и что было напечатано тогда у Шаламова, в промежутке между двумя лагерями, не сообщено. В Москве, по выходе, с 1957 года печатал стихи. В 1961 и 1964 годах выпустил два небольших сборника стихов, затем, в 1967 году, сборник стихов «Дорога и судьба», и в 1972 году – сборник «Московские облака». Рассказы и очерки Шаламова о лагерях в Советском Союзе не печатали, они расходились в списках «самиздата», в этих же списках попали за границу. Нельзя однако ручаться, что все они дошли до редакций русских зарубежных журналов и собранное в этой книге может не обнимать всего, написанного автором «Колымских рассказов» о лагерях.
Книга открывается рассказом «Как это началось», – когда и как Колымские лагеря стали превращаться в истребительную каторгу. Произошло это в 1937 году, в разгул ежовщины. Сталин закреплял за собой место единоличного диктатора, – ради этого должны были погибнуть миллионы человек и режим в лагерях, без какой-либо действительной необходимости, был превращен в режим массового мучения и истребления людей.
К сожалению, у нас нет верных свидетельств о первых годах колымских лагерей. Начало работы там, под вывеской «Дальстроя», относится к 1933 году, когда стали переоборудовать порт и город Магадан, превращая его в столицу золотодобычи и всего колымского края. Первым дело приступили к прокладке автодороги от Магадана на реку Колыму, к золотым месторождениям. На этой тяжкой работе, в нехоженой тайге и вечной мерзлоте, погибли тысячи людей, совершенно неприспособленных к тяжелой работе и суровым северным условиям. Может быть из-за этих условий заключенные жили тогда в более или менее человеческой обстановке: не было несдержанного произвола охраны и администрации, заключенных лучше кормили, даже платили им за работу деньги и они могли к пайку докупать продукты в ларьках. Некоторые даже посылали деньги домой, семьям, отправляли и посылки, о чем мельком упоминается в рассказе «Как это началось». С переходом на каторжный режим все это кончилось: с тех пор изнуряющий голод, холод и непосильная работа быстро сводили людей в могилу.
В других лагерях, до ежовщины, при 35 градусах мороза наружные работы прекращались, – на Колыме их прекращали только при 55 градусах ниже нуля. В истрепанной, негреющей одежде, в ужасающей «обуви» – в обрезках из автопокрышек, с неутихающим чувством голода, заключенные должны были работать и при 50-градусном морозе, обязанные выполнять нормы, установленные для сильных умелых рабочих, хорошо питающихся и живущих не в дырявых бараках.
Нерадиво работающему (а кто в тех условиях мог работать хорошо?) десятник может назначить индивидуальный замер (рассказ «Одиночный замер»), когда выработка записывается не на всю бригаду, а тому, кому дали такой «замер». Как заключенный ни старается, он не может выполнить даже половины нормы, – десятник вечером записывает сделанное и сведение передает следователю НКВД, – заключенного расстреливают.
Расстреливают за невыход на работу и отказ от нее, за невыполнение норм, за пререкания с начальством, по дутым, выдуманным уже в лагере «делам» (рассказ «Заговор юристов»), – начальство находит новые и новые предлоги для расстрелов. Охрана может пристрелить на работе или по дороге на работу, – охранник даже получит награду за бдительность и усердие. Заключенных бьют нарядчики, десятники, охранники, прорабы, – всяк, кому не лень. Наконец, лагерное исчадие – урки, воры, которых власть давно считает социально-близкими себе, безнаказанно терроризируют заключенных, действуя практически заодно с администрацией.
Все это и проходит перед нами в рассказах и очерках В. Шаламова, эпизод за эпизодом, одни люди в его окружении, другие – люди-тени, «доходяги», едва волочащие ноги и составляющие удручающее колымское царство мертвых. Здоровые, сильные в этом царстве – только начальство, охранники, да «социально-близкие» воры. Автор показывает равнодушие и предельное отчаяние, безразличие одних и дикую злобу и ненависть к людям у других, убийц по призванию, – мертвое царство встает перед вами во всей его мрачности.
О литературном качестве, художественных достоинствах этих свидетельств при чтении как-то не приходит желания и задумываться, – не говорит ли это однако лучше всего о высоком мастерстве автора? Он пишет в традиционной манере русского реалистического рассказа, без вычурности и потуг на ненужный модернизм, как и без излишнего нажима на педали, скорее сдержанно, но выпукло показывая своих спутников и тяжелый путь в царстве обреченных.
Мир, говорят, мал, – не так уж велик наверно и мир концлагерный, даже и многомиллионный. Я сидел за много лет до рассказанного Шаламовым о Колыме, – но встретил у него знакомые фамилии и людей. Вот, в Магадане – «дом Васькова», тюрьма. Васьков, чекист с начала организации ЧеКа, в 1928-29 годах в Соловках, в первом, кремлевском отделении был заместителем начальника этого отделения по административной части. Потом я встретил его в Управлении Северных лагерей, в Усть-Сысольске (тогда только начинали привыкать называть его Сыктывкаром), где он тоже заведовал Административной частью и был заместителем начальника Северных лагерей. Работая в Управлении, я часто видел его там.
С ним связана у меня даже забавная история. Когда нас привезли в Усть-Сысольск, в начале лета 1929 года, оказалось, что жить нам негде: лагерь, за городом, только начали строить. С неделю жили в городской школе, потом нам, работникам Управления, разрешили поселиться на частных квартирах. Я снял большую угловую комнату у местного учителя, четыре окна выходили на улицу и два во двор, где, метрах в двадцати, достраивался другой жилой дом. Пользоваться комнатой приходилось впрочем мало, только для сна: работали мы по 16 и даже 18 часов в сутки.
По утрам я видел, что постройка соседнего дома быстро подвигается. Наконец, хозяева сказали, что уже сдали две комнаты, какому-то нашему же работнику. Я не обратил на это внимания. Каково же было мое удивление, когда, дня через два-три, я случайно увидел своего соседа! Это был грозный наш начальник, Васьков! Ему, понятно, не понравилось, что какой-то заключенный может заглядывать в его окна, видеть, как он живет, – секретарь Васькова тогда же сказал мне, чтобы я нашел себе другую квартиру или шел жить в лагерь, где уже заканчивался барак для управленцев.
Там же встречал и еще одного, из рассказа «Протезы» – Песнякевича (фамилия редкая, вероятно он). Я работал заведующим расчетным отделением финансового отдела Управления, через меня проходили и все расчеты с вольнонаемными и охраной, – Песнякевич был в Северных лагерях начальником одной из оперативных групп охраны, по задержанию беглецов. У них были заставы по селам и деревням – Песнякевич приносил мне денежные отчеты по его собачьей работе, уже утвержденные начальником охраны лагерей.
В рассказе «Букинист» упоминается о лицеистах, – я встречал их в Соловках, в 1927-29 годах, с некоторыми был хорошо знаком. Рассказ «Букинист» содержит то, что говорил автору старый ленинградский чекист, тоже сидевший на Колыме, с которым автор, по-видимому, встречался и после лагерей, живя в Москве, – чекист однако, желая очевидно покрасоваться, придать себе веса, сильно привирал. Так, он рассказал автору, что «прикасался к папкам дела Гумилева, назвав его заговором лицеистов», – тут спутаны совсем разные факты. Когда я попал в Соловки первый раз, в сентябре 1927 года, лицеисты уже были там, они были арестованы в 1926 году, – а Гумилев был расстрелян в 1921 году, по совершенно другому делу, не имеющему никакой связи с лицеистами.
Остановлюсь еще на одном. Два рассказа в этой книге относятся не к Колыме, а к Вишерским лагерям начала 30-х годов: «Визит мистера Поппа» и «Лагерная свадьба». В Первом автор пишет: «Именно здесь и тогда проводился опыт новой лагерной системы – самоохрана, “перековка”, питание в зависимости от выработки, зачеты рабочих дней в зависимости от результатов труда. Здесь и именно здесь был решен вопрос – быть или не быть лагерям после проверки рублем, заработком… Именно Вишера знаменовала начало нового пути мест заключения…».
В действительности «проверка рублем» производилась на несколько лет раньше – в Соловках. В 1926 году крупный коммерсант Френкель, тоже заключенный, чтобы освободиться и видя, сколько пропадает в лагере напрасно труда «рабсилы» (заключенные тогда работали только по самообслуживанию), предложил начальству перевести деятельность лагерей на коммерческую ногу. Его предложение охотно приняли, была создана ЭКЧ – «Эксплоатационно-Коммерческая часть», ее начальником назначили Френкеля. И когда, через год, я попал в Соловки, там была уже и «самоохрана» – надзор из заключенных, питание в зависимости от выработки, – о «перековке» и зачете рабочих дней, правда, только начинали говорить. Френкель построил на Соловецком острове Кожевенный завод, начал торфоразработки, все работы не по обслуживанию заключенных были переведены на «хозрасчет». В Кеми открыли для вольного населения большой Универмаг и ресторан, куда приезжали кутить нэпманы и местное начальство от Петрозаводска до Мурманска. Тогда же, в 1926 году стали сдавать по договорам «рабсилу» заключенных местным предприятиям, которым не хватало рабочих – на погрузку леса в портах, на постройки. Были начаты большие лесозаготовки – лес шел на экспорт и на внутренний рынок. Тогда и проводилась «проверка рублем», приносившая лагерям большие деньги, – потом «новые методы», с 1929 года, распространились по всей стране. Новые лагеря первое время открывали группы работников, подобранные в Соловках. С одной из таких групп, летом 1929 года, я уехал из Соловков открывать Северные лагеря, в будущей республике Коми и Архангельской области. Вскоре после нас другую группу отправили открывать лагерь в Караганде; третью в Самарские степи, начинать прокладывать вторые пути на восток: все вторые пути транссибирской магистрали проложены заключенными.
Но эти замечания относятся к истории и ничего не меняют в рассказанном Шаламовым о жизни и работе заключенных на Колыме.
«О жизни и работе» – не вернее ли однако будет сказать: о полупризрачном, хотя и убийственном, мучительно-реальном полусуществовании обреченных на гибель колымских рабов? Разве не прав был Адамович, говоря, что они – «тени, почти мертвецы, подлинно мертвые души» – и разве не показывает их нам автор именно такими? Разве не говорит он, что все человеческое в них погасло и то, что еще едва-едва удерживает их на земле, жизнью уже не назовешь?
Да, так и показано. Но «полумертвец» – не мертвый, а еще полуживой. Что же удерживает этих явно обреченных в состоянии «полу»? Только голый животный инстинкт самосохранения?
Основываясь и на своем опыте, правда, полувековой давности, я бы сказал: нет, не только. Шаламов в одном месте верно заметил, что чувство справедливости – врожденное у человека. Да, таким его воспитало и культивировало в нас двухтысячелетнее христианство. И вот что характерно: ни у одного из колымских «врагов народа», как и в других лагерях, нельзя было заметить хотя бы тень, призрак согласия с тем, как с ним поступили и поступают. Каждый мог, конечно, подписать у следователя, что он виноват, признать все возведенные на него небылицы, – но это лишь внешне, напоказ, а подлинного, внутреннего согласия он никогда не изъявлял. И безглавое бесчеловечие всегда это чувствовало и это бесило его больше всего и больше всего заставляло посылать внутренне несогласных на уничтожение, на расстрел.
Несогласие, возмущение вопиющей несправедливостью, продолжает теплиться в душах «почти мертвецов», составляя первооснову их душ и поддерживая в них гнев, редко заметный на поверхности. Но он закаляет души и дает им силу продолжать свое существование.
Гнев редко прорывается, но иногда выходит наружу, обычно под влиянием отчаяния. Человек вдруг убивает охранника, издевающегося над людьми десятника или бежит в лес, даже зная, что никуда не убежит. Он знает, что поступая так неминуемо обрекает себя на верную смерть. Самый яркий, но и единственный пример открытого непримиримого протеста показан в рассказе «Последний бой майора Пугачева». Группа боевых военных-фронтовиков, под руководством майора Пугачева, разоружает ночью охранников, берет их оружие и уходит в тайгу. Все они гибнут, оставшись последним, майор стреляется, – но гибнут с оружием в руках, встав во весь рост. Этого в сущности они и хотели. И сила их протеста колоссальна.
Но меньше ли сила протеста даже мертвецов, их последнего молчаливого «ползучего парада», когда открылась яма-могила с замерзшими трупами на склоне горы (рассказ «По Лендлизу»)? Поэтому рассказы о лагерях остаются под запретом.
Люди доведены в лагерях до последней точки. Хроническое истощение, сжигающий холод, полное бесправие и постоянное издевательство стоящих над ними превратили их в теней, почти в мертвецов, в которых жизнь чуть теплится, держится на какой-то невидимой ниточке. Но она еще держится! И силу держаться дает людям скрытое на дне душ сопротивление, сознание своей правоты и возмущение несправедливостью. Автор в своих рассказах об этом не говорит, он уверяет нас, что перед нами уже не люди, но и помимо его воли мы продолжаем видеть в них людей. Их можно было довести до последней точки, поставить на колени, заставить беспрекословно повиноваться, – но окончательно можно победить, только уничтожив. Однако уничтожение – не победа…
В этом явлении вероятно кроется причина того, что самоубийства в лагерях были крайне редки.
Это же явление тесно связано с общим вопросом: как люди выживали в лагерях? В них погибли миллионы, – но большинство прошедших через лагеря все же выходило. Как же выдерживали они по десять, пятнадцать, двадцать лет нечеловеческой жизни?
Есть мнение: главное, что поддерживало существование заключенных – неугасимость надежды. Пусть даже надежды на чудо, – но разве то, на что их обрекли, не было тоже чудом? Чудом страшным, отвратительным, отрицательным, но все же чудом: ведь такой закономерности и естественности не может быть, так с людьми поступать нельзя, в этом был убежден каждый заключенный. Почему же не может случиться «хорошее чудо»? В лагерях вечно ходили слухи (радиопараши, – соловецкое словцо) о скорой амнистии, о пересмотре дел, сокращении сроков и т.д. Надежда, верно, играла в выживании большую роль.
Но не следует забывать и еще одно: взаимопомощь. Тут на меня, правда, могут ополчиться многие писавшие о лагерях: люди доведены в них до полузвериного существования, какая же у них может быть взаимопомощь? Солженицын в «Архипелаге» не раз писал о «жизненном принципе» воров: «умри ты сегодня, а я умру завтра», распространяя его на все лагерное существование. Шаламов о нем не вспоминает, но почти в каждом рассказе старается нас убедить, что ничего человеческого у окружающих не осталось, что они почти звери и подчиняются звериным инстинктам, а не человеческим чувствам и правилам. Всем содержанием своих рассказов он отвергает возможность оказания в лагере друг другу помощи.
Но не противоречит ли он сам себе? Читаем рассказ «Домино». Доведенного до предела истощения автора принимают в больницу. Врач говорит ему: «Лечиться вам нечего… Вас надо кормить и мыть…» И хотя автор не больной, врач оставляет его, к великой его радости, в больнице «месяца на два».
Автор спит, ест, отдыхает, постепенно «приходит в себя». Через несколько дней врач зовет его вечером, предлагает сыграть в домино. Угощает автора кашей, чаем, дает закурить. И в другой раз, через несколько лет, опять кладет в больницу, тоже не лечить, а дать отдохнуть, встать на ноги. И выяснилось, что оба не терпят домино и играли в эту игру только раз в жизни, – когда врач еще в первой больнице пригласил автора играть, желая сделать ему приятное и, очевидно, его подкормить.
«Ключ Алмазный» – хорошее место: нет ни конвоя, ни собак, работа не так тяжела. Но десятник оказался тираном-комбинатором особого склада: он лишал хлеба за снижение выработки, по своей собственной мерке и воле. Автор увидел, что тут гибель – и ушел, сбежал с этого «ключа». Вышел на дорогу, ночью пришел к избушке лесорубов. Бригадир лесорубов принял так, как будто беглецы к нему (как старый лагерник, он знал, что пришедший беглец) приходят каждый день. Дал хлеба, супа, закурить, оставил спать. Утром автор двинулся дальше, пришел в лагерь, откуда их отправили на «Алмазный». В рассказе «В больницу» автора, выступающего здесь под фамилией Крист, фельдшер невзлюбил и отказывается отправлять в больницу, хотя Крист и болен. Случайно Крист встречает знакомое лицо, с трудом вспоминает: это же бывший вольнонаемный начальник прииска, где был и Крист, – начальника потом осудили, он исчез, думали, что расстреляли – и вдруг он встретился здесь. Он работал в канцелярии, Крист пришел к нему – и только то, что они были одно время на том же прииске, как-то сблизило их, протянуло между ними связующую человеческую нить. Бывший начальник стал помогать Кристу, отдавал ему пайковую селедку, иногда и кусок хлеба, а потом, минуя фельдшера, включил в список отправляемых в больницу и тем, вероятно, спас Криста на какое-то время.
Автор начинает рассказ «Экзамен» признанием: «Я выжил, вышел из Колымского ада только потому, что стал медиком, кончил фельдшерские курсы в лагере, сдал государственный экзамен. Но раньше … был другой экзамен – приемный, более важный», – его автор не выдержал, но на курсы все же был принят.
Русский язык и математику автор сдал, – надо было сдать еще химию, но ее он не знал совсем. Причина: их преподавателя химии в средней школе в Вологде в гражданскую войну расстреляли и химию в школе не преподавали. Познакомиться хотя бы наскоро – нет учебника. Экзаменатор – академик, заключенный. Спросил – формулу гипса, автор ответил: «Не знаю. – Академик остолбенел». Формулу извести? Тоже не знаю. Академик заподозрил неслыханную дерзость, он и позже считал эти ответы «личным оскорблением деятеля науки», – он ведь не знал, почему химия осталась автору неизвестной. По другим предметам у автора были пятерки, академик видел, что перед ним интеллигентный человек – он поставил ему тройку и тем автора спас.
Нельзя сказать, чтобы Шаламов оказанной ему помощи не видел и значения ее не признавал. В рассказе «Город на горе» он пишет: «В моей лагерной жизни почти не было безымянных рук, поддерживавших в метель, в бурю, спасших мне жизнь безымянных товарищей. Но я помню все куски хлеба, которые я съел, из чужих, не казенных рук, все махорочные папиросы. Много раз попадал я в больницы, девять лет жил от больницы до больницы, ни на что не надеясь, но и не пренебрегая ничьей милостыней…» Но спасавшая «милостыня» остается в рассказах Шаламова на втором плане, как словно бы второстепенное, не видное, повседневное, что можно и не замечать. На первом плане, как обычно в литературе – самое резкое, разительное и отвратное и оно заслоняет остальное, принижает его значение. Самое резкое, подчеркнутое дважды и трижды, и подтверждает мысль автора, что в лагере «человек человеку только волк» и другого не может быть, что человек там превращен в зверя, в «почти мертвеца», у которого не осталось ничего человеческого. Мы верим этим утверждениям, хотя они лишают возможности ответить на вопрос: как же в таком случае большинство заключенных все-таки выживало и выходило из лагерей?
Проволоку лагерей можно раздвинуть и страшный их опыт проследить в полувековой жизни всей многомиллионной страны, помня, что концлагеря в СССР – сгусток происходившего и «на воле». Ленинско-сталинские концлагеря – это предельное, до конца доведенное воплощение идей и практики марксо-ленинско-сталинского тотального разрушения России («старого мира») и постройки на ее развалинах «социализма», – воплощение, катастрофически обедняющее жизнь населения, сводящее ее на уровень животного существования, превращающего людей в «почти мертвецов». Мрак этого предельного воплощения – есть торжество голого бесчеловечия – и оно было бы безнадежно полным, если бы в нем не светились тонкие нити подлинной человечности, идущие от одного к другому в массе задавленных рабов, и помогающие всем выдерживать гнет животного бесчеловечия. Так это в лагерях, – так это и во всей стране. И без этого хотя бы минимального человеческого тепла население могло бы одичать там до конца.
Шаламов, повторяю, не отрицает в отношениях между заключенными хотя бы остатков человечности, заслоняемой, правда, торжеством бесчеловечия. Читая его рассказы, надо лишь помнить и об этой стороне лагерного бытия, легко становящегося небытием.
Литература о лагерях становится все более обширной, – «Колымские рассказы» В. Шаламова занимают в ней видное место. И если когда-нибудь будет составлена полная история ленинско-сталинских лагерей, они станут заметным вкладом в эту работу.
Г. Андреев