- I. Ignat'ev
-
Authors
- Review
-
Source Type
- Gadkie lebedi Review
- Ulitka na sklone Review
-
Publications
- January 1973
-
Date
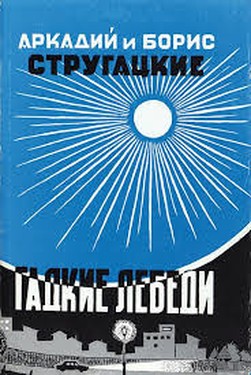
Братья Аркадий и Борис Стругацкие, самые популярные советские писатели-фантасты, прокладывающие новые пути научной фантастике, ценятся во всем мире наравне с такими выдающимися представителями этого жанра, как американцы Исаак Азимов, Рей Бредбери и поляк Станислав Лем.
Старший брат Аркадий Натанович, которому сейчас 47 лет, по специальности переводчик-референт японского языка и проживает в Москве; в то время как 39-летний Борис Натанович – астроном и живет в Ленинграде. Стругацкие дебютировали в 1959 году повестью «Страна багровых туч» о полете на планету Венера.
С тех пор они опубликовали много повестей и рассказов, из которых самую большую популярность приобрел[и] «Путь на Амальтею», «Далекая радуга», «Возвращение», «Понедельник начинается в субботу[»], «Хищные вещи века», «Второе нашествие марсиан». Памфлетные повести о советской действительности «Улитка на склоне» и «Сказка о тройке» после публикации в журнале «Байкал» номера 1–2 за 1968 год и в альманахе «Ангара» номера 4–5 за 1968 год были изъяты из обращения и дождались книжного издания только на ЗападеА. и Б. Стругацкие. «Гадкие лебеди». Изд-во «Посев». Цена – 7.00 долл..
Начиная с опубликованной в 1966 году повести «Эллинский секрет», братья Стругацкие постепенно переходят от утопической научной фантастики к чистой фантастике с философским оттенком. Свое внимание сосредоточивают они уже не на предсказывании будущего человечества, а все чаще на сегодняшнем дне, изображаемом как вчерашний или завтрашний. В их произведениях действующие лица выступают часто как маски, олицетворяющие идеи и настроения разных слоев советского общества.
К «Гадким лебедям» можно смело отнести слова писательницы Ариадны Громовой из ее предисловия к «Улитке на склоне» («Байкал» ном. 1, 1968): «Не ищите в этой повести восторженного описания грядущих чудес науки и техники. Не ищите также пророчеств и предвидений в области социологии и морали… Это фантастика другого рода. И другого уровня – гораздо более сложная, рассчитанная на восприятие квалифицированных, активно мыслящих читателей. Таких читателей в нашей стране очень много, без преувеличения можно сказать, что больше, чем в какой-либо другой стране мира».
Так писала Громова отнюдь не из опасения, что «Улитка на склоне» будет кому-то непонятна. У советских читателей достаточно развита зрелость мысли и чувства, чтобы понять, что к чему. Ведь даже рецензент «Правды Бурятии»[,] некий Б. Александров[,] разгадал суть повести и закипел негодованием:
«Это произведение, названное фантастической повестью, является не чем иным, как пасквилем на нашу действительность»…
Стоит только, значит, создать художественную картину какого-то абстрактного, нелепого государства с извращенной властью, с абсурдными противоречиями, где обскурантизм подавляет силы прогресса, чтобы самые ярые фанатики советской системы узнали, как в кривом зеркале, свой идол и себя самих.
В последнем романе Стругацких, попавшем на Запад посредством самиздата, в «Гадких лебедях», специфика описанного общества разрешает все сомнения относительно локализации и времен[и] действия. Уже в самом названии романа авторы выразили свое разочарование по поводу несбывшегося превращения гадкого лебедя в соответствии с известным сказочным мотивом. Лебеди советской жизни получились куда более гадкими, чем утята революции.
Главный герой романа – преуспевающий столичный писатель Виктор Банев.
В начале романа он, модный писатель, попадает в мимолетную опалу, ибо во время встречи с президентом страны, возглавляющим одновременно правящую партию [«]Легион Свободы[»], он демонстративно вытер себе щеку, когда «господин президент изволил взвинтить себя до последней степени», а «из его клыкастой пасти летели брызги».
В газетном же отчете «беллетрист Б. Банев искренне поблагодарил господина президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы». Господин президент – портрет, описанный со Сталина и Хрущева. Банев вынужден выехать в город своего детства и юности, где проживают его бывшая жена и дочь Ирма.
Этот город со своими лозунгами-заклинаниями «Президент – отец народа», «Легионер Свободы – верный сын Президента», «Армия – наша грозная слава» уже три года размывает апокалипсический дождь, настоящий потоп. Здесь барометры постепенно указывают: без просвета. Вблизи этого обреченного на гибель города находится лепрозорий, в котором живут какие-то генетически больные люди, называемые «мокрецами» или «очкариками» из-за желтых кругов вокруг глаз. Нижнюю часть лица закрывают они плотной черной повязкой.
Местное население всегда относилось к ним, как к прокаженным; во время юности Банева в них кидали камнями и их боялись, как заразы. Но теперь их жутко ненавидят и преследуют, когда они осмеливаются появляться в городе. Зачинщиками этих гонений оказываются впоследствии работники органов безопасности, бургомистр, полицмейстер и местный депутат парламента.
Банев, достойный сын своего города и эпохи, пересиливает первоначальную отчужденность, быстро находит себе теплую компанию и в перерывах между попойками рассуждает о положении писателей:
[«]Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной… швейцар не будет кланяться… и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники… это действительно плохо… Но это же редко, времена не те… смягчение нравов… Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь».
Существеннейшим жизненным экзаменом оказалась для Банева авторская встреча с учениками гимназии, в которой учится его дочь. Мальчики и девочки в возрасте от десяти до четырнадцати лет потребовали от него, чтобы с ними говорили как с равными, и загнали его в тупик своими вопросами. Из их высказываний он узнает, что мир взрослых людей в их понятии [–] это сборище грязных и неприятных типов, настолько запущенных и безнадежных, что даже жалко усилий изменять их к лучшему. А когда дискуссия коснулась вопроса прогресса в связи с развитием автоматизации и будущей идиллической жизни (все сыты, топтать друг друга не к чему, никто друг другу не мешает) и Банев вынужден признать, что героев его романов устроило бы такое будущее, ему оппонирует молодежный вожак:
«…для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас [–] это могильник. Конец надежд, Тупик… Вы сожрали себя, – простите, пожалуйста, – вы себя растратили на междоусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье… Вы гнили в окопах, взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение… да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек – это звучит гордо. И кого вы только не называли человеком!..»
Когда Банев обвиняет молодежь в жестокости, молодые ему возражают:
«Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы совсем не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы жестоки: вы не представляете себе строительства нового без разрушения старого… Мы даже поможем нашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить[,] господин Банев, только строить…»
Ошеломленный Банев готов поверить этим мальчикам и девочкам, предвестникам лучшего будущего, что старый мир не помешает им строить новое, что прежняя история прекратила свое течение и не надо на нее ссылаться. Но это преждевременное духовное и умственное созревание детей местные нотабли и большинство жителей города рассматривают как бедствие, причиненное им ненавистными «мокрецами».
В противоположность своим родителям, которые боятся и презирают этих «генетически больных», дети их обожают, ходят к ним в лепрозорий, воруют у родителей деньги, чтобы покупать книги.
Обведенный колючей проволокой и охраняемый солдатами лепрозорий, в котором живут и работают для нужд военной мощи страны «мокрецы», является своеобразным сочетанием еврейского гетто с «Академгородком» и «почтовым ящиком». «Мокрецы» с незапамятных времен подвергались гонениям со стороны отсталых слоев населения страны, а со стороны оккупантов – даже прямому истреблению, но по личному указанию господина президента они были после войны свезены в одно место и получили возможность существования. Так рассказывает бургомистр города Баневу, добиваясь от него статьи в столичной газете с требованием убрать лепрозорий, ибо по городу поползли слухи о роковой роли «мокрецов» в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за уход из города кошек, не говоря уже о подстрекательстве детей к неповиновению родителям. Зур[з]мансор, один из ведущих «мокрецов», в разговоре с Баневым излагает о своих собратьях:
«…наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы много[е] делаем, и за это нам много[е] разрешается. Разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены… и так далее… Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну, а мы их не разубеждаем…»
Здесь налицо аналогия с деятельностью академика Сахарова, физика Чалидзе и других инакомыслящих советских ученых.
Кульминационный пункт романа – уход всех детей города в лепрозорий к «мокрецам». Дети уходят из города и идут за теми, кто их научил мыслить, как когда-то ушли дети из Гаммельна, прельщенные свирелью крысолова.
«…Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали и пели, и не оглядывались потому, что уже все забыли, потому, что у них было только будущее, потому, что они забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопиных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, беременное чудовищными преступлениями».
Весь город собрался под колючей изгородью лепрозория, чтобы вернуть своих детей. Только автоматы, пулеметы и броневик военной охраны удерживали разъяренную толпу от кровопролития. Члены Легиона Свободы, похожие на всех фашистских молодчиков мира, со значками Отличного Стрелка и Отличного Парашютиста, с дубинками в руках, уже готовились к атаке, когда раздался Голос из мегафона:
«Да, перестаньте вы кричать, перестаньте размахивать руками и угрожать… Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы стали им окончательно неприятны. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства».
Голос передал, что родителям разрешается приходить в специальный Дом Встречи и говорить с детьми. Он советовал родителям подумать, что они могут дать своим детям, которых родили и калечат по своему образцу и подобию. И Банев вместе с другими родителями понял, что не нужны они детям, которым нет дела до старого мира и которые требуют только одного, чтобы к ним не лезли.
В разговоре с врачом лепрозория, Големом, Банев пытается выяснить вопрос, почему молодежь так и прет строить новый мир за колючей проволокой (как идут сейчас в концлагеря В. Буковский, А. Амальрик и другие), и узнает много подробностей об очковой болезни, которой страдают «мокрецы». Эта болезнь, оказывается, поражает всех тех, кто начинает самостоятельно думать.
И начинающий пересматривать свои прежние позиции Банев вдруг обнаруживает у себя изменения кожи, сыпь и волдыри, столь характерные для «мокрецов». Голем выясняет, что у него… обыкновенная крапивница. У него была просто идиосинкразия к клубнике, которой он объелся накануне. И «бедный прекрасный утенок» Банев, который полагал, что одних волдырей достаточно, чтобы стать архитектором нового мира, сожалеет о каких-то упущенных огромных возможностях.
Повествование завершается грандиозной картинной – столкновения двух миров. Жители лепрозория, не развязывая дремучих инстинктов и не взывая к национальному самосознанию, идут вместе с детьми в наступление на старый мир. Начинается большое бегство:
«Город прорвало, как нарыв. Вперед драпали избранные, драпал[и] магистратура и полиция, драпал[и] промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки (члены Легиона Свободы – И.И.) – все, все в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов – рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ – на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах, в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, толкая ручные тележки, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия».
Потрясающая картина будущего, которое «запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня», вещее предсказание неизбежного торжества Добра над Злом. Экстатическая, утонченная фантастика братьев Стругацких, ассоциирующаяся с нарастающей борьбой порабощенных тоталитаризмом народов, дышит оптимизмом и вселяет надежду на неотвратимые перемены…
"