Igor Efimov. Memoirs by Evgeny Shvarts
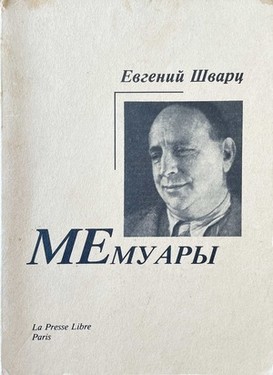
По меркам советской литературной жизни 1930–50-х он был сказочно удачлив. К 1934-му году цензурные тиски уже сдавили горло Бабелю, Олеше, Платонову, Булгакову, Ахматовой, Мандельштаму и многим другим, а Шварц именно в это время переживает первый успех своих детских пьес и пишет «Голого короля». В атмосфере сталинского террора, когда можно было попасть в застенки НКВД за написанную по старой привычке букву «ять», он создает полную опасных аллюзий «Тень» (1940) и доводит до сценического воплощения прямую сатиру на тоталитарное единовластие – «Дракона» (1943–46). Он не был знаменит, как певец Леонид Утесов или диктор Левитан, но шутливые обороты из его пьес и сценариев становились частью народной речи, повторялись миллионы раз. Люди могли не слыхать имени Евгения Шварца, но с удовольствием, с предвкушением улыбки понимающего собеседника бросали что-нибудь вроде:
«Давай, честный старик, без выкрутасов, режь мне правду-матку».
«Чего же мне, жабе зелененькой, сейчас хочется?»
«Вы так невинны, что можете сказать ужасные вещи».
«Всех так учили. Но зачем было становиться первым учеником, скотина ты такая?»
После смерти (1958) он был объявлен классиком детской литературы, его вещи продолжали с успехом идти на сценах театров, но все попытки опубликовать его мемуары наталкивались на непонятное сопротивление. 37 больших амбарных книг, «исписанных дрожащим, почти невозможным для чтения почерком», хранятся сейчас в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства), но за прошедшую четверть века только несколько отрывков из них были напечатаны в советских журналах и альманахах. Когда стало ясно, что литературные власти не собираются выполнять свои обещания о выпуске отдельного тома, ныне живущий в Америке профессор Лев Лосев (отец которого был дружен со Шварцем и его семьей) подготовил и выпустил часть мемуаров отдельной книгой. (Евгений Шварц. «Мемуары». 237 стр. La Presse Libre, Paris).
И перед нами предстал новый Евгений Шварц. Оказалось, что он был не только замечательным драматургом и сценаристом, но и неподражаемым мастером литературного портрета. Причем этой стороне его таланта было свойственно очень редкое сочетание: участливой доброты и беспощадной ясности взгляда на описываемого человека.
Вот каким, например, предстает перед нами знаменитый иллюстратор детских книг В.В. Лебедев:
«Как Шкловский, как Маяковский, он веровал, что время всегда право… Лебедев веровал в сегодняшний день, любил то, что в этом дне сильно, и презирал, как нечто неприятное в хорошем обществе, всякую слабость и неудачу. То, что сильно, и людей, олицетворяющих эту силу, любил он искренне, любовался ими, как хорошим боксером на ринге… Больше подобных людей любил он только одно – вещи… В Кирове, во время войны, Лебедев потряс меня заявлением, что ему жалко вещей, гибнущих в блокадном Ленинграде, больше, чем людей. Вещи – лучшее, что может сделать человек. И он завел альбом, в котором рисовал оставшиеся в ленинградской квартире сокровища. Какой-то замечательный половник. Кастрюли. Башмаки. Шкаф в прихожей. Шкаф кухонный. Все эти вещи уцелели его молитвами, бомба не попала в его квартиру».
А вот о поэте Н.М. Олейникове:
«Со страстью любил он дело, друзей и женщин и – по роковой сущности страстей – трезвел в положенный срок. И в ледяной и неподкупной трезвости своей ненавидел с той же силой, как только что любил. И в том, что овладевала им неизбежная трезвость, винил он тех, кого только что любил. Мало сказать – винил. Он их поносил, холодно и непристойно глумился над ними… И в страсти, и в трезвости своей он был заразителен. Но поскольку ненавидел много, много дольше, то являлся он – великим разрушителем».
Но самое большое место в книге занимают портреты-очерки: Корнея Чуковского («Белый волк»), Самуила Маршака и Бориса Житкова («Превратности характера»). И здесь снова и люди, эпоха предстают перед нами сквозь слово, окрашенное тем же редким сочетанием: приемлющей доброты и ясной беспощадности. Не это ли сочетание предопределило трудную судьбу «Мемуаров»? Чем-то они, видимо, не устраивают ни тех, ни других: ни официальных литературоведов, занятых превращением умерших писателей в священные мумии советской литературы, ни друзей и поклонников, пытающихся представить автора «Доктора Айболита» гением мировой величины, «Тараканище» выдать за смелую сатиру на Сталина (усы!), а «Мистера Твистера» приравнять чуть ли не к «Сентиментальному путешествию». Недаром же публикация маленького обкромсанного отрывка о Лебедеве в «Искусстве кино» (№ 9, 1962) вызвала в свое время легкий шок и скандал.
В предисловии к книге профессор Лосев проводит интересную параллель между литературными судьбами Шварца и Булгакова. Он считает, есть «глубинное сходство… между “Мастером и Маргаритой” и прозой Шварца. И там и здесь оба автора более всего стремились избавиться от инерции собственного писательства, создать произведения наиболее адекватные своему мировосприятию. В центре того и другого произведения оказались выразительнейшие портреты культурных общин: у Булгакова – выживающей и отвратительной автору Москвы, у Шварца – умирающего и дорогого автору Петрограда».
Конечно, «Мемуары» заслуживают более полного издания, с развернутыми комментариями, библиографическими справками и именным указателем. Но и то, что удалось сделать составителям и издателям уже сейчас, в нелегких эмигрантских условиях, привлечет – будем надеяться – благодарное внимание русского читателя.
