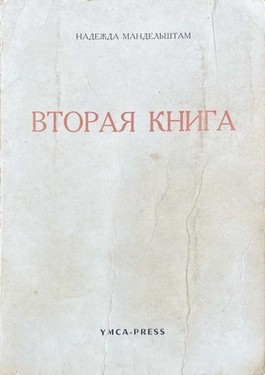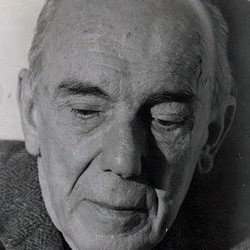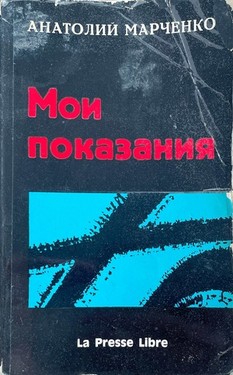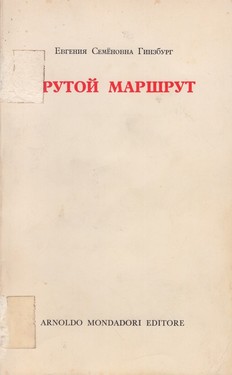«…Молодежь, говорят, этим больше не интересуется – надо же подумать о молодежи. А я утверждаю, что никакой меры нет: надо говорить об одном и том же, пока не выйдет наружу каждая беда, каждая слеза и не станут ясны причины происходившего и происходящего сейчас. Нельзя позволять сартрам проповедовать мнимую свободу и садизм, нельзя итальянским писателишкам ездить в Китай и давать советы о том, как по-китайски бороться с бюрократией. Нельзя напиваться как свиньи, чтобы уйти от реальности, нельзя собирать русские иконы и солить капусту, пока не вспомнят каждую жену, ушедшую за мужа в лагерь или оставшуюся дома, чтобы молчать, проглотив язык. Я требую, чтобы все перевидели мои сны за полстолетия, включая тринадцать с лишком лет полного одиночества. Попробуйте, начните, тогда вам, может, не захочется убивать...
Нужно начисто побороть страх в себе и бороться за каждую человеческую душу, напоминая человеку, что он – человек и тридцать серебряников еще никого не спасали».
Так пишет Надежда Мандельштам на одной из последних страниц своей «Второй Книги», как бы ее резюмируя и обосновывая. И в этом, действительно, ее суть и смысл: в оголенной до предела советской реальности, в напоминании всем людям, и доброй, и злой воли, всем «сартрам» и «арагончикам», что нельзя бесконечно молчать, нельзя уподобляться «ленивым иноземцам, лелеющим надежду, что у них – таких культурных – все будет иначе». Нельзя забывать, что и Гусак утверждал, что «в Чехословакии все будет иначе», не будет ни арестов, ни политических тюрем. А вот, из Праги пишут, что «ужасы 50-х годов – ничто перед творящимся теперь в 72 году».
Однако в плане эмпирическом, в области фактов, 700 страниц этой второй книги Надежды Мандельштам – не откровение. В ней нет ничего такого, чего бы читатель уже не знал, не считая, конечно, некоторых деталей ее личной жизни и жизни ей близких людей: Мандельштама, Гумилева Пастернака... тех, с кем она встречалась и жизнь прожила. Это занятная, но, по-настоящему, интересная лишь для литературоведов часть воспоминаний. В остальном, в книге нет ничего такого, что пролило бы новый свет на жизнь в СССР. О лагерях, тюрьмах, психлечебницах, доносах, допросах преследованиях, голоде и холоде 20-х, 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов известно все сполна, начиная от Кравченко и кончая Марченко. Ни убавить, ни добавить уже нечего, да и не надо.
Сила книги совсем в другом – в той атмосфере беспросветной тьмы, опошления, безнадежности и почти полного духовного тупика, в которые больше чем пятидесятилетний опыт советского коммунизма завел 250-миллионный народ.
Лично мне ничего подобного читать не приходилось. Так, упомянутая уже книга Марченко описывает случаи лагерной жизни, ужас которых невозможно забыть. Но они ограничиваются периферией лагерей, но и лагерей теперь значительно меньше. «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург – ее переживания главным образом в тюрьме. «Вторая книга» Мандельштам – книга о всем Советском Союзе: от Ленинграда до Ташкента, от Москвы до Воронежа и до Тифлиса, от Бухарина и Суркова до мелких кагебистов, от Ахматовой и Пастернака до дворников и сапожников и простых сердобольных русских баб.
И все они, где бы ни находились и чем бы ни занимались, от власть имущих и до властью гонимых, все они – вольные или невольные сообщники или жертвы того страшного режима, той еще никогда не виданной человечеством античеловечной системы, которая известна под названием «советского коммунистического строя». Надежда Мандельштам заставляет читателя окунуться в эту систему, почувствовать и на себе ее удушающий гнет.
Как она этого достигает – не знаю. Я не литературовед и о литературных достоинствах книги писать не берусь. Скажу только, что на мой взгляд, в ней много повторений малоинтересных чисто семейных деталей, не всегда убедительных утверждений, смахивающих на поучения, рассуждений о поэзии, примитивных толкований Бергсона и сомнительной критики Бердяева, резких и несправедливых суждений о людях, которых Надежда Мандельштам мало знала или совсем не знала (напр[имер] Максимилиана Волошина, Георгия Иванова, Ирину Одоевцеву). Пусть об этом пишут литературоведы и разбираются в этом критики. У меня для такого разбора нет ни необходимых знаний, ни достаточного желания.
Все это к тому же мне кажется малозначительными частностями перед той общей огромностью, о которой – даже не рассказывает – кричит книга Надежды Мандельштам. Да и не властвует ли советский коммунистический строй над шестой частью суши в значительной степени потому, что слишком много внимания обращалось на частности – плохие дороги, плохой урожай, отсталая техника, допотопное искусство, дефективная продукция и т.д. – и не замечалось главное и основное: попытка вырвать из истории, дегуманизировать, дехристианизировать и превратить в роботов 250 миллионов человек?
И осуществить это так, чтобы ни на Западе, ни на Востоке, и ни в самой несчастной стране, никто бы этого не заметил или, заметив, привык бы. Ведь привык же мир к тому, что был Сталин и сталинщина и что они стоили русскому народу десятки миллионов жертв. Привык мир и, привыкнув, забыл. Забыл или не додумал, что русский коммунизм породил немецкий национал-социализм, что преступная вера Сталина в Гитлера стоила русскому народу еще других двадцати миллионов жертв, не говоря уже о том, что русский коммунистический опыт, перебросившись в Китай, грозит теперь уже всему миру – и прежде всего тому же русскому народу – новыми гекатомбами трупов и небывалой в истории катастрофой.
Книга Надежды Мандельштам об этом, единственно важном в наше время и в нашем мире: нельзя продолжать закрывать глаза на происходящее в Советском Союзе, нельзя – ни в самом СССР, ни в свободных странах Запада – мириться с тем, что там происходит, «утешать себя надеждой, что нас это не коснется». Нет, это коснется всех, потому что уже коснулось миллионов, превратив их в покорных и довольных слуг режима, продавших себя за теплое местечко, за лишний метр жилплощади, за поездку за границу или другие поблажки властей. Поэтому не надо удивляться, что на Западе все больше и больше становится людей, которые совершенно уверены, что в Советском Союзе люди живут вполне нормально, как они в своей Франции, Англии или Германии. Вот только они не знают, что довольны своей участью в СССР главным образом те, кто – даже того не замечая – давно потерял основное, что делает человека человеком: чувство необходимости быть свободным существом.
«Вторая книга» на примерах показывает, как происходит этот процесс – потеря человеком его свободной личности.