L. Rostovtseva. Bulgakov's Novel 'The Master and Margarita'
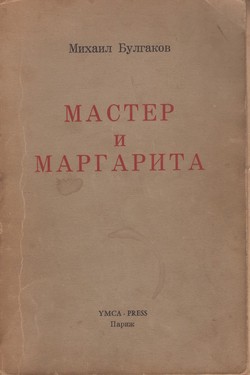
Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» настолько-же интересен и глубок по замыслу, насколько труден для истолкования. Столько блестящей фантастики, столько недомолвок, намеренных или вынужденных, что основная мысль выясняется только, когда прочтешь его несколько раз. Кажется, никто еще не дал нам исчерпывающего толкования этого романа, и, конечно, весьма дерзкой и самонадеянной надо считать попытку заурядного читателя приняться за это дело. Оправдание только в том, что, в конце концов, автор пишет не для литературоведов и критиков, а именно для читателя, а читатель, понимая или не понимая, получает право высказывать то, что воспринял.
И все же, чем больше вчитываешься в этот роман, тем яснее гармоничность его построения, и смысл «тайнописи» постепенно делается явным и отчетливым. Он указывается уже в эпиграфе, взятом из [«]Фауста[»]: «Я – часть той силы, которая вечно хочет зла и совершает благо». А содержание – извечная история человеческой души – Понтия Пилата, создателя этого героя-мастера, но и человека вообще: его поиски добра и света, робость и трусость дойти до конца, а затем переход во власть нечистого и конец – уход в бездумное прозябание, дарованное ему в награду нечистым, в тишину, где он надевает «засаленный и вечный колпак». Такова, думается, идея романа. Идя по его страницам, мы встречаемся сначала с первыми фантастическими взрывами нечистых духов, а дальше Понтий Пилат, казнь, убийство Иуды Пилатом. И сразу же обращает на себя внимание двоякость стиля и языка: веселый насмешливый говорок, когда говорится о фантастических приключениях, вызванных свитой главного духа зла, и строгий, эпически спокойный голос, повествующий нам историю Христа – Га Нацри [sic!]. С одной стороны, нагромождение событий и приключений, фантастика иррационального, где все дразнит, манит и обещает и все неверно и обманчиво – все только фантом, только короткая видимость радости, а тут – неизменное, истинно реальное и не меняющееся – Га Нацри и его мир. Но Понтий Пилат убивает Иуду. Почему Булгаков отошел от Евангельской правды?
Мне случилось слышать возмущенные голоса, обвинявшие Булгакова в ненужном и неоправданном искажении. И ответы, что автор не обязан придерживаться исторической правды, что фантазия – его неотъемлемое право. Но думается, что в этом убийстве Иуды Пилатом есть глубокий скрытый смысл. Понтий Пилат (всякий человек) не сумел, не захотел защитить Христа Га Нацри от казни, но чувство вины у него осталось – ведь и сам он был предателем, и он захотел защитить его в той форме, какая ему была доступна, т.е. физическим уничтожением врагов Га Нацри. Разве это не историческая правда, правда более страшная, чем Евангельское повествование о конце Иуды? Крестовые походы, инквизиция, процессы ведьм, сожжение еретиков… Так люди служили идее Христа. Думается, что это единственное толкование, которое объясняет отступление Булгакова от исторически нам известного. Если бы он пропустил смерть Иуды вообще или оставил бы ее такой, какой мы знаем ее из Евангелия, – утеряна была бы мысль о примитивно жестоком, глубоко ложном служении [нрзб]. Но много дальше Понтий Пилат, отягощенный сознанием своей вины, испуганно спрашивает: «Но ты мне, пожалуйста, скажи, – тут лицо из надменного обращается в умоляющее, – ведь казни не было! Молю тебя, скажи, не было?» «Ну, конечно, не было»[,] – отвечает спутник, но глаза его почему-то улыбаются. Нет, казнь была, она и есть[,] и продолжается до сих пор – люди и сейчас распинают Христа.
Но вот в романе появляются Мастер и Маргарита; она, как вышедшая из его ребра (а может быть, символически и мыслится Ева, соблазненная змием и соблазнившая Адама?), не имеет своей жизни, она вся в мастере, в его творчестве, успехе…Но она не воспринимает света, излучающегося от Га Нацри, он не влечет ее. «Ты знаешь, – говорит она, – как раз, когда ты заснул вчера ночью, я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря…и эти идолы, ах, эти золотые идолы! Они почему-то мне все время не дают покоя». Показательные слова. Потеря мастера, провал романа, убийственный отзыв критика Латунского переживаются Маргаритой как совершенно невыносимый удар. Она хочет только его и его признания – благ в конце концов материального порядка. Для того, чтобы снова соединиться с мастером и воссоздать его роман, она продает себя дьяволу, но и мастера вовлекает в орбиту зла и его благодеяний. Чем же кончается духовная история мастера? «Я больше писать о нем не буду», – заявляет он. И дальше: Азазелло умерщвляет и затем снова воскрешает мастера и Маргариту. «А, понимаю, – сказал мастер, озираясь. – Вы нас убили. Мы мертвы. Теперь я понял все». И еще дальше: «он стал прислушиваться к тому, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но оно было нестойким и почему-то сменилось горделивым равнодушием, а последнее – предчувствием постоянного покоя». И вот конец мастера: «Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет он или смеется и что кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он…»
«Мне туда – за ним?» – спросил мастер беспокойно.
«Нет, – ответил Воланд, – зачем же гнаться за тем, что уже кончено… по этой дороге, мастер, по этой». «Прощайте, мне пора!» (Его миссия кончена).
Интересно как прием, что образ Понтия Пилата (олицетворение духовных поисков и жажды света самого мастера) выходит из рамок романа и как бы получает свою самостоятельную сюрреальную [sic!] жизнь – «может быть, они о чем-нибудь и договорятся…»
Но Воланд дает мастеру и Маргарите «вечный дом» – дом бездумно счастливой плоти, как награду. Вечный дом, жизнь вечно живущих, вечно сменяющихся поколений… мастер будет гулять с подругой под цветущими вишнями, а вечером писать гусиным пером. «Неужели Вы не хотите, подобно Фаусту[,] сидеть над ретортой в надежде, что Вам удастся вылепить нового гомункула?» Как показательно – уже не Га Нацри, а гомункул!
И особо значительны и трагичны заключающие слова Маргариты: [«]слушай беззвучие[,] – говорила Маргарита, [–] слушай и наслаждайся тишиной… смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду… ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». Да, мастер уже не сумеет прогнать Маргариту-Еву, – тягу земную, которая привела его на пути духа зла. И не его вдохновение (ведь он больше не писал), а духовное угасание, его животно-счастливый покой обещает она беречь. Это награда Воланда. И совсем ясными и понятными делаются слова Левия-Матвея, обращенные к духу зла: «Он прочитал сочинение мастера, – заговорил Левий-Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собой мастера и наградил его покоем. Неужели тебе трудно это сделать?»
«Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе хорошо это известно, а что же Вы не берете его к себе, в свет?»
«Он не заслужил света, он заслужил покой», – печальным голосом проговорил Левий[-]Матвей.
Такова, думается, расшифровка тайнописи в романе Булгакова. Много значительных мест, которые следовало бы осветить, я пропустила, потому что иначе статья разрослась бы до размера журнальной. Я только сконцентрировала то, что мне казалось основным ядром. Очень интересна и содержательна статья г-на ДароваАнатолий Даров. "Воскрешение Булгакова" // Новое русское слово (17 марта 1968). , но с некоторыми местами я позволю себе не согласиться. Он считает одной из пружин романа «Маргариту, т.е. любовь». Думается, что в заключительных словах она раскрывает свой истинный образ, и звучат они, как приговор мастеру. Не поэтична, а глубоко трагична ее тишина: «ты будешь засыпать, надевши засаленный и вечный колпак». Причем же тут Пастернак? У Пастернака совсем иное понимание тишины. И можно ли считать эти слова выражением идеи вечной любви? Г-н Даров считает образ Воланда «не очень темным – он скорее благосклонен к людям». Ведь нечистый дух всегда осыпает милостями людей, служащих ему, но за этими милостями стоит вечное зло. А Соловьевский Антихрист, который творит все во благо?
Но, может быть, все мое толкование произвольно. Буду рада, если кто[-]нибудь исправит мои ошибки и предложит другое, более правильное.
"