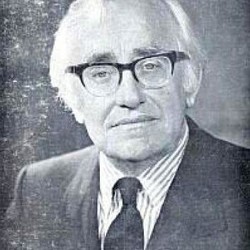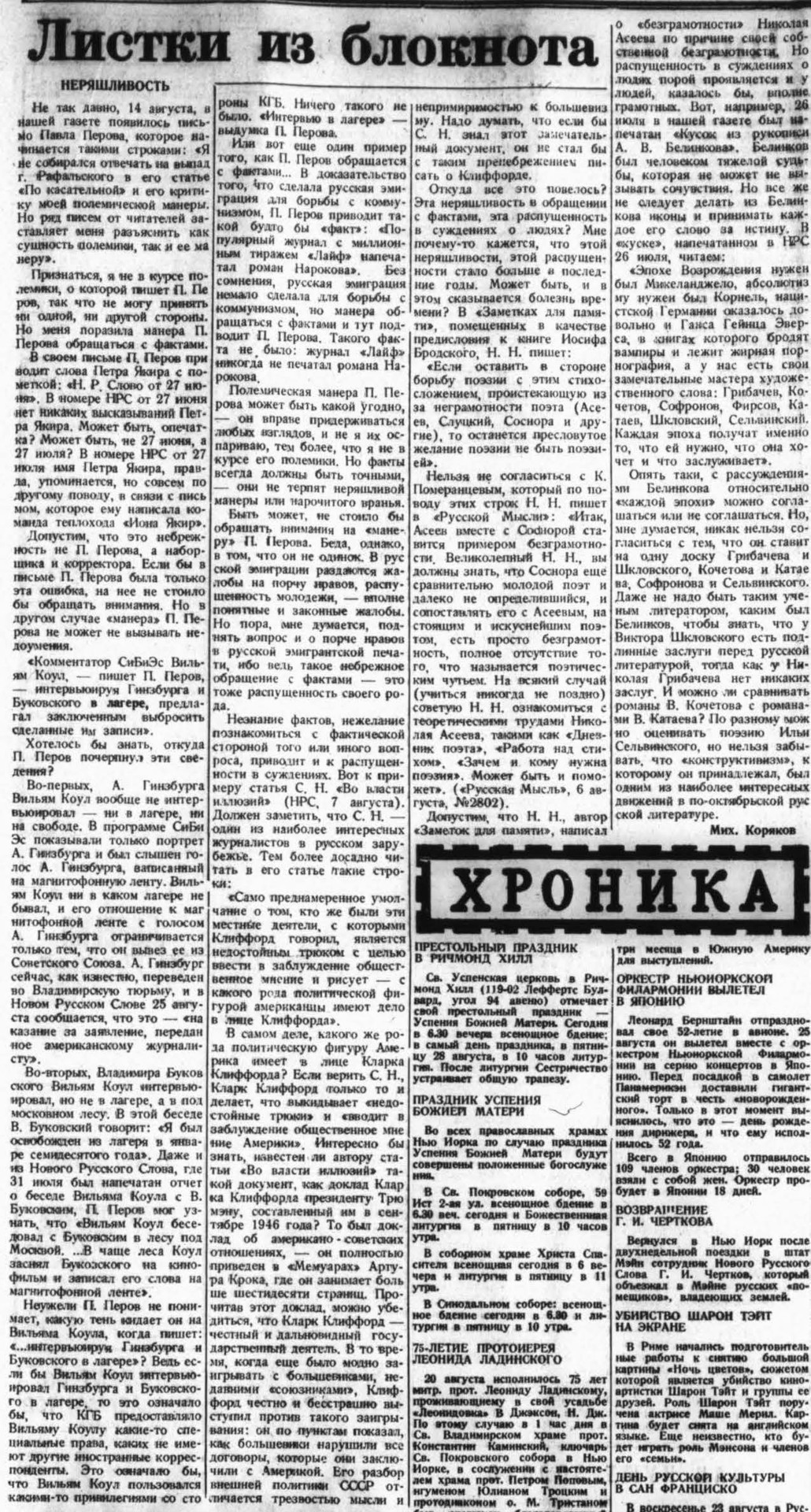Mikhail Koriakov. Sloppiness
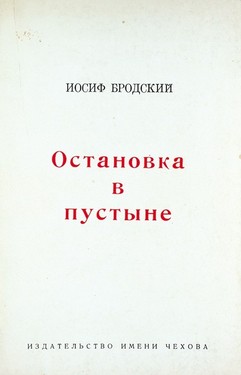
- Mikhail Koriakov
-
Authors
- Paratext
-
Source Type
- Ostanovka v pustyne Preface
-
Publications
- August 1970
-
Date
Не так давно, 14 августа, в нашей газете появилось письмо Павла Перова, которое начинается такими строками: «Я не собирался отвечать на выпад г. Рафальского в его статье “По касательной” и его критику моей полемической манеры. Но ряд писем от читателей заставляет меня разъяснить как сущность полемики, так и ее манеру».
Признаться, я не в курсе полемики, о которой пишет П. Перов, так что не могу принять ни одной, ни другой стороны. Но меня поразила манера П. Перова обращаться с фактами.
В своем письме П. Перов приводит слова Петра Якира с пометкой: «Н<овое> Р<усское> Слово от 27 июня». В номере Н<ового> Р<усского> С<лова> от 27 июня нет никаких высказываний Петра Якира. Может быть, опечатка? Может быть, не 27 июня, а 27 июля? В номере от 27 июля имя Петра Якира, правда, упоминается, но совсем по другому поводу, в связи с письмом, которое ему написал командир теплохода «Иона Якир».
Допустим, что это небрежность не П. Перова, а наборщика и корректора. Если бы в письме П. Перова была только эта ошибка, на нее не стоило бы обращать внимания. Но в другом случае «манера» П. Петрова не может не вызывать недоумения.
«Комментатор СиБиЭс Вильям Коул, – пишет П. Перов, – интервьюируя Гинзбурга и Буковского в лагере, предлагал заключенным выбросить сделанные им записи».
Хотелось бы знать, откуда П. Перов почерпнул эти сведения?
Во-первых, А. Гинзбурга Вильяма Коул вообще не интервьюировал – ни в лагере, ни на свободе. В программе СиБиЭс показывали только портрет А. Гинзбурга и был слышен голос А. Гинзбурга, записанный на магнитофонную ленту. Вильям Коул ни в каком лагере не бывал, и его отношение к магнитофонной ленте с голосом А. Гинзбурга ограничивается только тем, что он вывез ее из Советского Союза. А. Гинзбург сейчас, как известно, переведен во Владимирскую тюрьму, и в Новом Русском Слове 25 августа сообщается, что это – «наказание за заявление, переданное американскому журналисту».
Во-вторых, Владимира Буковского Вильям Коул интервьюировал, но не в лагере, а в подмосковном лесу. В этой беседе В. Буковский говорит: «Я был освобожден из лагеря в январе семидесятого года». Даже из Нового Русского Слова, где 31 июля был напечатан отчет о беседе Вильяма Коула с В. Буковским, П. Перов мог узнать, что «Вильям Коул беседовал с Буковским в лесу под Москвой. …В чаще леса Коул заснял Буковского на кинофильм и записал его слова на магнитофонной ленте».
Неужели П. Перов не понимает, кукую тень кидает он на Вильяма Коула, когда пишет: «…интервьюируя Гинзбурга и Буковского в лагере»? Ведь если бы Вильям Коул интервьюировал Гинзбурга и Буковского в лагере, то это означало бы, что КГБ предоставляло Вильяму Коулу какие-то специальные права, каких не имеют другие иностранные корреспонденты. Это означало бы, что Вильям Коул пользовался какими-то привилегиями со стороны КГБ. Ничего такого не было. «Интервью в лагере» – выдумка П. Перова.
Или вот еще один пример того, как П. Перов обращается с фактами… В доказательство того, что сделала русская эмиграция для борьбы с коммунизмом, П. Перов приводит такой будто бы «факт»: «Популярный журнал с миллионным тиражом “Лайф” напечатал роман Нарокова». Без сомнения, русская эмиграция немало сделала для борьбы с коммунизмом, но манера обращаться с фактами и тут подводит П. Перова. Такого факта не было: журнал «Лайф» никогда не печатал романа Нарокова.
Полемическая манера П. Перова может быть какой угодно, – он вправе придерживаться любых взглядов, и не я их оспариваю, тем более, что я не в курсе его полемики. Но факты всегда должны быть точными, – они не терпят неряшливой манеры или нарочитого вранья.
Быть может, не стоило бы обращать внимания на «манеру» П. Перова. Беда, однако, в том, что он не одинок. В русской эмиграции раздаются жалобы на порчу нравов, распущенность молодежи, – вполне понятные и законные жалобы. Но пора, мне думается, поднять вопрос и о порче нравов в русской эмигрантской печати, ибо ведь такое небрежное обращение с фактами – это тоже распущенность своего рода.
Незнание фактов, нежелание познакомиться с фактической стороной того или иного вопроса приводит и к распущенности в суждениях. Вот к примеру статья С.Н. «Во власти иллюзий» (Н<овое> Р<усское> С<лово>, 7 августа). Должен заметить, что С.Н. – один из наиболее интересных журналистов в русском зарубежье. Тем более досадно читать в его статье такие строки: «Само преднамеренное умолчание о том, кто же были эти местные деятели, с которыми Клиффорд говорил, является недостойным трюком с целью ввести в заблуждение общественное мнение и рисует – с какого рода политической фигурой американцы имеют дело в лице Клиффорда».
В самом деле, какого же рода политическую фигуру Америка имеет в лице Кларка Клиффорда? Если верить С.Н., Кларк Клиффорд только то и делает, что выкидывает «недостойные трюки» и «вводит в заблуждение общественное мнение Америки». Интересно было бы знать, известен ли автору статьи «Во власти иллюзий» такой документ, как доклад Кларка Клиффорда президенту Трумэну, составленный им в сентябре 1946 года? То был доклад об американо-советских отношениях, – он полностью приведен в «Мемуарах» Артура Крока, где он занимает больше шестидесяти страниц. Прочитав этот доклад, можно убедиться, что Кларк Клиффорд – честный и дальновидный государственный деятель. В то время, когда еще было модно заигрывать с большевиками, недавними «союзниками», Клиффорд честно и бесстрашно выступил против такого заигрывания: он по пунктам показал, как большевики нарушили все договоры, которые они заключили с Америкой. Его разбор внешней политики СССР отличается трезвостью мысли и непримиримостью к большевизму. Надо думать, что если бы С.Н. знал этот замечательный документ, он бы не стал с таким пренебрежением писать о Клиффорде.
Откуда все это повелось? Эта неряшливость в обращении с фактами, эта распущенность в суждении о людях? Мне почему-то кажется, что этой неряшливости, этой распущенности стало больше в последние годы. Может быть, и в этом сказывается болезнь времени? В «Заметках для памяти», помещенных в качестве предисловия к книге Иосифа Бродского, Н.Н. пишет: «Если оставить в стороне борьбу поэзии с этим стихосложением, проистекающую из неграмотности поэта (Асеев, Слуцкий, Соснора и другие), то останется пресловутое желание поэзии не быть поэзией».
Нельзя не согласиться с К. Померанцевым, который по поводу этих строк Н.Н. пишет в «Русской Мысли»: «Итак, Асеев вместе с Соснорой ставится примером безграмотности. Великолепный Н.Н., вы должны знать, что Соснора еще сравнительно молодой поэт и далеко не определившийся, и сопоставлять его с Асеевым, настоящим и искуснейшим поэтом, есть просто безграмотность, полное отсутствие того, что называют поэтическим чутьем. На всякий случай (учиться никогда не поздно) советую Н.Н. ознакомиться с теоретическими трудами Николая Асеева, такими как “Дневник поэта”, “Работа над стихом”, “Зачем и кому нужна поэзия”. Может быть и поможет». («Русская мысль», 6 августа, № 2802).
Допустим, что Н.Н., автор «Заметок для памяти», написал о «безграмотности» Николая Асеева по причине своей собственной безграмотности. Но распущенность в суждении о людях порой проявляется и у людей, казалось бы, вполне грамотных. Вот, например, 26 июля в нашей газете был напечатан «Кусок из рукописи А.В. Белинкова». Белинков был человеком тяжелой судьбы, которая не может не вызывать сочувствия. Но все же не следует делать из Белинкова иконы и принимать каждое его слово за истину. В «куске», напечатанном в Н<овом> Р<усском> С<лове> 26 июля, читаем: «Эпохе Возрождения нужен был Микеланджело, абсолютизму нужен был Корнель, нацистской Германии оказалось довольно было и Ганса Гейнца Эверса, в книгах которого бродят вампиры и лежит жирная порнография, а у нас есть свои замечательные мастера художественного слова: Грибачев, Кочетов, Софронов, Фирсов, Катаев, Шкловский, Сельвинский. Каждая эпоха получает именно то, что ей нужно, что она хочет и что заслуживает».
Опять-таки, с рассуждениями Белинкова относительно «каждой эпохи» можно соглашаться или не соглашаться. Но мне думается, никак нельзя согласиться с тем, что он ставит на одну доску Грибачева и Шкловского, Кочетова и Катаева, Софронова и Сельвинского. Даже не надо быть таким литератором, каким был Белинков, чтобы знать, что у Виктора Шкловского есть подлинные заслуги перед русской литературой, тогда как у Николая Грибачева нет никаких заслуг. И можно ли сравнивать романы В. Кочетова с романами В. Катаева? По разному можно оценивать поэзию Ильи Сельвинского, но нельзя забывать, что «конструктивизм», к которому он принадлежал, был одним из наиболее интересных движений в по-октябрьской [sic!] русской литературе.
"