- Mikhail Koriakov
-
Authors
- Review
-
Source Type
- Man without an Adjective Review
- Vse techet Review
-
Publications
- April 1971
-
Date
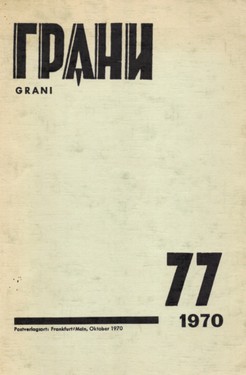
«Россия много видела за тысячу лет своей истории. За советские годы страна увидела и всемирные военные победы, и огромные стройки, и новые города, и плотины, преграждающие течение Днепра, Волги, и канал, соединяющий моря, и мощь тракторов, и небоскребы. Лишь одного не видела Россия за тысячу лет – свободы».
Так размышляет Иван Григорьевич, недавний «зэк», освобожденный из лагеря и приехавший Москву. Иван Григорьевич – герой повести Василия Гроссмана «Все течет…». Центральная мысль этой книги – мысль о России и свободе. Без сомнения, мысли Ивана Григорьевича – это мысли самого Василия Гроссмана.
Нет, спора, книга «Все течет...» – одна из самых интересных книг, вышедших в последнее время из России. В ней есть страницы о коллективизации, о голоде, которые нельзя читать без содрогания. В ней высказана правда о по-октябрьской русской жизни. В одном из предыдущих «листков» я уже писал об этом, – теперь мне хочется отметить одну особенность книги Василия Гроссмана, а именно его историческую концепцию.
«Лишь одного не видела Россия за тысячу лет – свободы»... В понимании В. Гроссмана, Россия – «тысячелетняя раба». «Неумолимое подавление личности, – пишет Василий Гроссман, – неотступно сопутствовало тысячелетней истории русских. Холопское подчинение личности государю и государству. Да, и эти черты видели, признавали пророки России. И вот, наряду c подавлением человека князем, помещиком, государем и государством, пророки России сознавали невиданную западным миром чистоту, глубину, ясность, Христову силу души русского человека. Ей, русской душе, и прочили пророки великое и светлое будущее. Они сходились на том, что в душе русских идея христианства воплощена в безгосударственной, аскетической, византийской антизападной форме, и что силы, присущие русской народной душе, выразят себя в мощном воздействии на европейские народы, очистят, преобразуют, осветят в духе братства жизнь западного мира, и что западный мир доверчиво и радостно пойдет за русским человеком. Эти пророчества сильнейших умов и сердец России объединились одной общей им роковой чертой. Все они видели силу русской души, прозревали ее значение для мира, но не видели они, что особенности русской души рождены не свободой, что русская душа – тысячелетняя раба. Что даст миру тысячелетняя раба, пусть ставшая всесильной?»
В другом месте книги читаем: «Девятьсот лет просторы России, порождавшие в поверхностном восприятии ощущение душевного размаха удали и воли, были немой ретортой рабства. ... В поверхностном восприятии рождалось однозначное ощущение растущего просвещения и сближения с Западом. Но чем больше становилась схожа поверхность русской жизни с жизнью Запада, чем больше заводской грохот России, стук ее тарантасов и поездов, хлопанье ее корабельных парусов, хрустальный свет в окнах ее дворцов напоминал о западной жизни, тем больше росла тайная пропасть и самой сокровенной сути русской жизни и жизни Европы. Бездна эта была в том, что развитие Запада оплодотворялось ростом рабства».
Большевицкое [sic!] рабство, по Гроссману, это не что иное как продолжение царского, самодержавного рабства. «В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы», – пишет В. Гроссман, но тут же добавляет, что Россия не пошла по этой, незнакомой ей дороге, – «Россия выбрала Ленина». Почему же Ленина? Да потому, – говорит автор книги «Все течет...», что Ленин – это порождение России. «Ленинская нетерпимость, непоколебимое стремление к цели, презрение к свободе, жестокость по отношению к инакомыслящим и способность, не дрогнув, смести с лица земли не только крепости, но и волости, уезды, губернии, оспорившие его ортодоксальную правоту, – все эти черты не возникли в Ленине после октября. Эти черты были у Володи Ульянова. У этих черт глубокие корни».
А Сталин? Вот что Василий Гроссман говорит о Сталине:
«Все черты не ведающей жалости к людям крепостной России собрал в себе Сталин. В его невероятной жестокости, в его невероятном вероломстве, в его способности притворяться и лицемерить, в его злопамятстве и мстительности, в его грубости, в его юморе – выразился сановный азиат. ...Тысячелетний принцип роста русского просвещения, науки и промышленной мощи через посредство роста человеческой несвободы, принцип, взращенный боярской Русью, Иваном Грозным, Петром, Екатериной, этот принцип достиг при Сталине полного своего торжества».
Такова историческая концепция Василия Гроссмана. Надо ее отметить, изложить и разобрать, потому что В. Гроссман не одинок, – по многим материалам видно, что такой взгляд на прошлое присущ и некоторым другим оппозиционным писателям в современной России. Как известно, с такими же взглядами приехал из России Аркадий Белинков, который писал, что народонаселение России «в процессе вековой эволюции» превратилось «в стадо предателей, доносчиков, палачей и свободоненавистников» (цитирую по статье Романа Гуля «Об инсиниуации и русофобии», Н<овое> Р<усское> С<слово> от ноября 1970 года). Белинков писал о «беспросветной, сохранившейся навсегда и неизменной при всех исторических обстоятельствах традиционной подлости русского интеллигентного общества» (цитирую по той же статье). Такие же веяния, если не взгляды, присущи в какой-то мере и Григорию Померанцу, автору чрезвычайно интересной статьи «Человек без прилагательного», в которой говорится, что в борьбе за свободу нельзя положиться ни на русский народ, ни на русскую интеллигенцию.
На русский народ, по мнению Померанца, положиться нельзя, потому что «взбаламученный, взбунтовавшийся народ теряет свою душу, становится массой, глиной в руках бесов. ... Рассчитывать на него в борьбе за свободу, прогресс и прочие цели интеллигенции – все равно, что скакать на тигре. Без необходимости лучше не пробовать».
Не годится для борьбы за свободу и русская интеллигенция... «Интеллигенция, – пишет Г. Померанц, – не может пройти мимо политических событий, затрагивающих ее нравственное чувство. Но погрузившись в политику с головой, она теряет себя, становится политической контрэлитой, бюрократией наизнанку. Происходит это очень просто. Ситуация, рождающая трусов, рождает также героев. Герои, вступившие в спор деспотизмом, приходят к убеждению, что им-то, в их святой борьбе, все позволено. Поэтому борцы за право сами себя привыкают считать выше права, выше обывательской нравственности. Придя к власти, они легко берут в руки топор палача и продолжают традиции, против которых восстали:
«Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах – дух самодержавья,
Взрывы революции в царях...»
Итак, получается заколдованный круг... Конечно, вопрос о России и свободе не новый вопрос, как показывают хотя бы те же строки из Максимилиана Волошина, которые приводит Г. Померанц. В эмиграции над этим вопросом размышляли мыслители не чета Белинкову, Померанцу и даже Василию Гроссману, – вспомним, например, статью Г.П. Федотова «Россия и свобода» в «Новом журнале», статью, полную горечи, боли, но все же не безнадежности. Как никогда, нужен сейчас диалог между русским зарубежьем и теми людьми в России, которые, как талантливейший Василий Гроссман, задумываются:
«Где пора русской свободной человеческой души? Да когда же наступит она? А может, не будет ее, никогда не настанет».