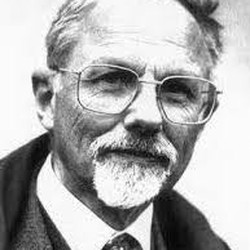Nikita Struve. Review of Sobach'e serdtse by Mikhail Bulgakov

Михаил Булгаков вступил в литературу два года после октябрьской революции. Очень скоро, как и все писатели, он был поставлен перед выбором, либо сломить свой талант ради благополучия и сомнительной славы при жизни, либо писать «в ящик стола», обрекая себя на нищету и безвестность. Следуя им же самим прославленным традициям интеллигенции, Булгаков раз и навсегда выбрал второй путь. С 1927 года, ни одна его строчка, вплоть до наших лучших времен, не появилась в печати. А пьесы его, за исключением «Дней Турбиных», пользовавшихся непонятной благосклонностью самого Сталина, или не допускались к постановке, или снимались после нескольких представлений. Но жизнь еще раз подтвердила неизменный евангельский закон: погубивший свою душу, сбережет ее. Сегодня, более четверти века после смерти писателя, мы присутствуем при стремительном, почти что стихийном его возвращении в литературу.
Сорок два года отделяют написание «Собачьего сердца» от этого первого печатного его издания. И мы не знаем, сколько лет эта повесть пролежала бы еще в архивах, если, по счастливой случайности, список с нее не попал бы за границу.
Из всех «погубленных» при жизни Булгакова произведений, «Собачье сердце» наименее известное. В печати о нем нигде не говорится. Мы не найдем о нем упоминания ни в письме Булгакова советскому правительству, где он поименно перечисляет ряд опальных или безнадежных вещей (от «Багрового острова» до черновиков будущего романа о дьяволе, «Мастер и Маргарита»), ни в обстоятельном предисловии В. Лакшина к избранной прозе Булгакова (Москва, 1966 г.).
Есть основания думать, что именно «Собачье сердце» и определило трагическую судьбу писателя. И это не удивительно. В «Собачье сердце» Булгаков вложил свои основные мысли о событиях, постигших Россию. В сюжетном отношении «Собачье сердце» как бы близнец «Роковых яиц», написанных годом раньше, в 1924 году, и неожиданно пропущенных цензурой. Обе повести – утопические сатиры на одну и ту же тему: о характере и целесообразности социальных переворотов в истории. И в одной и в другой, Булгаков образно выразил то, что он откровенно назвал в письме к правительству «своим глубоким скептицизмом в отношении революционного процесса», а наивному народничеству, проникшему в официальную идеологию, противопоставил свою веру в ведущую роль интеллигенции, этого «лучшего слоя страны». И там и тут положительными героями выступают представители интеллигенции, при чем в «Собачьем сердце» подчеркнуто их скромное сословное происхождение: профессор Преображенский – сын протоиерея, а его ассистент, Борменталь, из еврейской чиновничьей среды.
Но в исполнении замысла между «Роковыми яйцами» и «Собачьим сердцем» имеются существенные различия. В «Роковых яйцах» чудаковатый профессор биологии Персиков сделал потрясающее открытие: его луч жизни производит необычайно быстрое размножение яйцеклетки. Но это бескорыстное открытие, в ударном порядке, использовано чиновником от правительства Рокком, для восстановления совхозного куроводства, разоренного таинственным мором. По бюрократической ошибке, в колхоз из Германии присланы не куриные, а змеиные яйца, и под действием красного луча из них вылупляются чудовищные гады. Местное бедствие становится национальным. Разъяренная толпа убивает без вины виноватого проф. Персикова. И если бы не вмешательство природных, иррациональных, сил, – лютый мороз в середине августа – вся страна погибла бы от нашествия размножающихся чудовищ.
Почему, закончив «Роковые яйца», Булгаков немедленно вернулся к той же теме? Был ли он не совсем удовлетворен ее разработкой или просто хотел осветить ее под новым углом, мы не знаем. Но в «Собачьем сердце» он несомненно придал этой теме, переведя ее в чисто антропологическую плоскость, гораздо бо́льшую закономерность и цельность. В «Роковых яйцах» катастрофа произошла не столько от использования луча жизни, сколько от роковой, но случайной ошибки. В «Собачьем сердце» нет никакой случайности. Нет также и той фантасмагории, которой порой увлекается Булгаков и которая затемняет иногда его основную мысль. Фантастический элемент в «Собачьем сердце» сведен к самому необходимому, к центральному происшествию, приобретающему значение символа. Но не будем пересказывать повести. Предоставим самому читателю радость открыть, к чему ведет пребывание ошпаренной дворняжки в уютной квартире московского профессора. Остановимся лишь на одном отличии «Собачьего сердца» от «Роковых яиц». «Собачье сердце» имеет счастливый конец: профессору Преображенскому удалось предотвратить бедствие. Увы, исторические события подтвердили скорее развязку «Роковых яиц». Разбушевавшиеся «шариковы» первым делом обернулись против породившей их интеллигенции, обеспечив тем самым себе долгую жизнь. Но, как раз, значительность «Собачьего сердца» в том, что в нем новому общественному явлению, не легко определимому, найден образ и дано имя. Можно смело предсказать, что «Шариков» (а за ним, вероятно, и «шариковщина») войдет в русский словарь как наименование нового типа людей, порожденного революционными скачками и техническими открытиями наших дней.
Значительное по своему социально-философскому замыслу «Собачье сердце» поражает и законченностью своего исполнения: острый комизм, легкий, чеховский юмор, драматическая напряженность рассказа, стройная архитектоника целого, все эти качества ставят «Собачье сердце» в ряд лучших произведений русской прозы ХХ столетия.