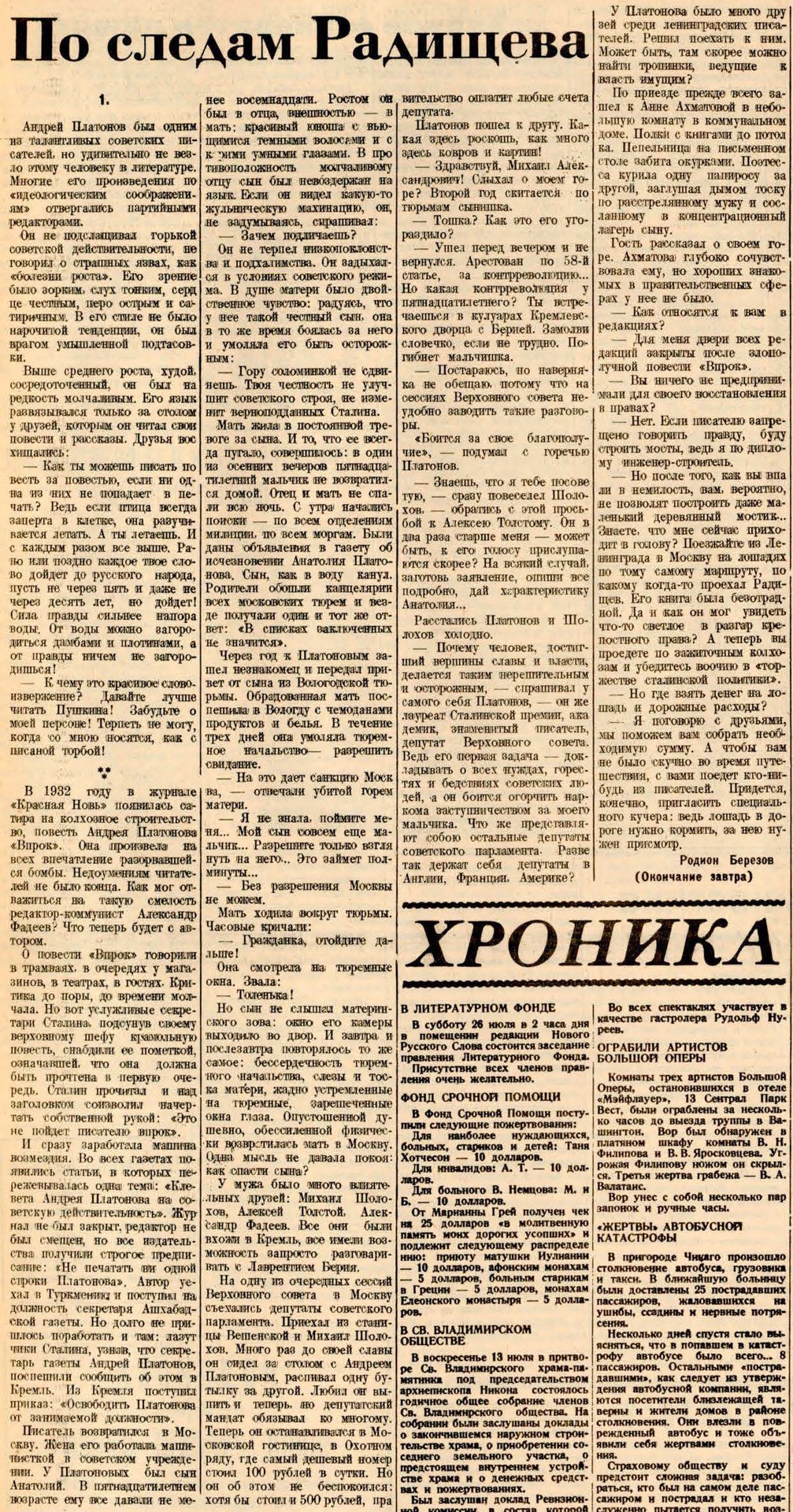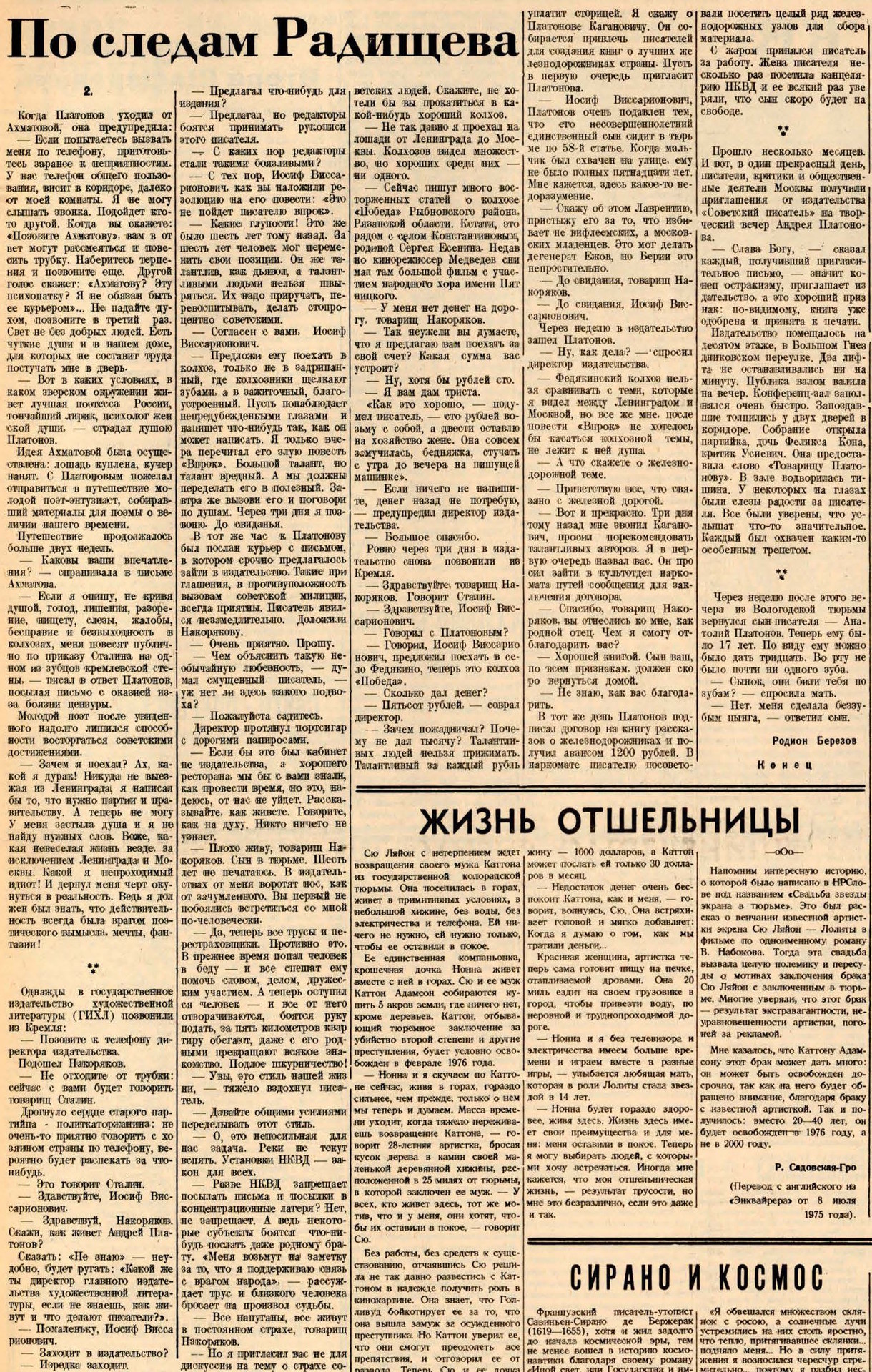Rodion Berezov. In Radishchev's Footsteps

1.
Андрей Платонов был одним из талантливых советских писателей, но удивительно не везло этому человеку в литературе. Многие его произведения по «идеологическим соображениям» отвергались партийными редакторами.
Он не подслащивал горькой советской действительности, не говорил о страшных язвах как «болезни роста». Его зрение было зорким, слух тонким, сердце честным, перо острым и сатиричным. В его стиле не было нарочитой тенденции, он был врагом умышленной подтасовки.
Выше среднего роста, худой, сосредоточенный, он был на редкость молчаливым. Его язык развязывался только за столом у друзей, которым он читал свои повести и рассказы. Друзья восхищались:
– Как ты можешь писать повесть за повестью, если ни одна из них не попадает в печать? Ведь если птица всегда заперта в клетке, она разучится летать. А ты летаешь. И с каждым разом все выше. Рано или поздно каждое твое слово дойдет до русского народа, пусть не через пять и даже не через десять лет, но дойдет! Сила правды сильнее напора воды. От воды можно загородиться дамбами и плотинами, а от правды ничем не загородишься.
– К чему это красивое словоизвержение? Давайте лучше читать Пушкина! Забудьте о моей персоне! Терпеть не могу, когда со мною носятся, как с писаной торбой!
* * *
В 1932 году в журнале «Красная Новь» появилась сатира на колхозное строительство, повесть Андрея Платонова «Впрок». Она произвела на всех впечатление разорвавшейся бомбы. Недоумениям читателей не было конца. Как мог отважиться на такую смелость редактор-коммунист Александр Фадеев? Что теперь будет с автором.
О повести «Впрок» говорили в трамваях, в очередях у магазинов, в театрах, в гостях. Критика до поры до времени молчала. Нот вот услужливые секретари Сталина, подсунув своему верховному шефу крамольную повесть, снабдили ее пометкой, означавшей, что она должна быть прочтена в первую очередь. Сталин прочитал и над заголовком соизволил начертать собственной рукой: «Это не пойдет писателю впрок».
И сразу заработала машина возмездия. Во всех газетах появились статьи, в которых пережевывалась одна тема: «Клевета Андрея Платонова на советскую действительность». Журнал не был закрыт, редактор не был смещен, но все издательства получили строгое предписание: «Не печатать ни одной строки Платонова». Автор уехал в Туркмению и поступил на должность секретаря Ашхабадской газеты. Но долго не пришлось поработать и там: лазутчики Сталина, узнав, что секретарь газеты Андрей Платонов, поспешили сообщить об этом в Кремль. Из Кремля поступил приказ: «Освободить Платонова от занимаемой должности».
Писатель возвратился в Москву. Жена его работала машинисткой в советском учреждении. У Платоновых был сын Анатолий. В пятнадцатилетнем возрасте ему все давали не менее восемнадцати. Ростом он был в отца, внешностью – в мать: красивый юноша с вьющимися темными волосами и с карими умными глазами. В противоположность молчаливому отцу сын был невоздержан на язык. Если он видел какую-то жульническую махинацию, он, не задумываясь, спрашивал:
– Зачем подличаешь?
Он не терпел низкопоклонства и подхалимства. Он задыхался в условиях советского режима. В душе матери было двойственное чувство: радуясь, что у нее такой честный сын, она в то же время боялась за него и умоляла его быть осторожным:
– Гору соломинкой не сдвинешь. Твоя честность не улучшит советского строя, не изменит верноподданных Сталина.
Мать жила в постоянной тревоге за сына. И то, что ее всегда пугало, совершилось: в один из осенних вечеров пятнадцатилетний мальчик не возвратился домой. Отец и мать не спали всю ночь. С утра начались поиски – по всем отделениям милиции, по всем моргам. Были даны объявления в газету об исчезновении Анатолия Платонова. Сын как в воду канул. Родители обошли канцелярии всех московских тюрем и везде получали один и тот же ответ: «В списках заключенных не значится».
Через год к Платоновым зашел незнакомец и передал привет от сына из Вологодской тюрьмы. Обрадованная мать поспешила в Вологду с чемоданами продуктов и белья. В течение трех дней она умоляла тюремное начальство – разрешить свидание.
– На это дает санкцию Москва, – отвечали убитой горем матери.
– Я не знала, поймите меня... Мой сын совсем еще мальчик... Разрешите только взглянуть на него... Это займет полминуты...
– Без разрешения Москвы не можем.
Мать ходила вокруг тюрьмы. Часовые кричали:
– Гражданка, отойдите дальше!
Она смотрела на тюремные окна. Звала:
– Толенька!
Но сын не слышал материнского зова: окно его камеры выходило во двор. И завтра[,] и послезавтра повторялось то же самое: бессердечность тюремного начальства, слезы и тоска матери, жадно устремленные на тюремные, зарешеченные окна глаза. Опустошенной душевно, обессиленной физически возвратилась мать в Москву. Одна мысль не давала покоя: как спасти сына?
У мужа было много влиятельных друзей: Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Александр Фадеев. Все они были вхожи в Кремль, все имели возможность запросто разговаривать с Лаврентием Берия.
На одну из очередных сессий Верховного совета в Москву съехались депутаты советского парламента. Приехал из станицы Вешенской и Михаил Шолохов. Много раз до своей славы он сидел за столом с Андреем Платоновым, распивал одну бутылку за другой. Любил он выпить и теперь, но депутатский мандат обязывал ко многому. Теперь он останавливался в Московской гостинице, в Охотном ряду, где самый дешевый номер стоил 100 рублей в сутки. Но он об этом не беспокоился: хотя бы стоил и 500 рублей, правительство оплатит любые счета депутата.
Платонов пошел к другу. Какая здесь роскошь, как много здесь ковров и картин!
– Здравствуй, Михаил Александрович! Слыхал о моем горе? Второй год скитается по тюрьмам сынишка.
– Тошка? Как это его угораздило?
– Ушел перед вечером и не вернулся. Арестован по 58-й статье, за контрреволюцию... Но какая контрреволюция у пятнадцатилетнего? Ты встречаешься в кулуарах Кремлевского дворца с Берией. Замолви словечко, если не трудно. Погибнет мальчишка.
– Постараюсь, но наверняка не обещаю, потому что на сессиях Верховного совета не удобно заводить такие разговоры.
«Боится за свое благополучие», – подумал с горечью Платонов.
– Знаешь, что я тебе посоветую, – сразу повеселел Шолохов, – обратись с этой просьбой к Алексею Толстому. Он в два раза старше меня – может быть, к его голосу прислушаются скорее? На всякий случай заготовь заявление, опиши все подробно, дай характеристику Анатолия...
Расстались Платонов и Шолохов холодно.
– Почему человек, достигший вершины славы и власти, делается таким нерешительным и осторожным, – спрашивал у самого себя Платонов, – он же лауреат Сталинской премии, академик, знаменитый писатель, депутат Верховного совета. Ведь его первая задача – докладывать о всех нуждах, горестях и бедствиях советских людей, а он боится огорчить наркома заступничеством за моего мальчика. Что же представляют собою остальные депутаты советского парламента. Разве так держат себя депутаты в Англии, Франции, Америке?
У Платонова было много друзей среди ленинградских писателей. Решил поехать к ним. Может быть, там скорее можно найти тропинки, ведущие к власть имущим?
По приезде прежде всего зашел к Анне Ахматовой в небольшую комнату в коммунальном доме. Полки с книгами до потолка. Пепельница на письменном столе забита окурками. Поэтесса курила одну папиросу за другой, заглушая дымом тоску по расстрелянному мужу и сосланному в концентрационный лагерь сыну.
Гость рассказал о своем горе. Ахматова глубоко сочувствовала ему, но хороших знакомых в правительственных сферах у нее не было.
– Как относятся к вам в редакциях?
– Для меня двери всех редакций закрыты после злополучной повести «Впрок».
– Вы ничего не предпринимали для своего восстановления в правах?
– Нет. Если писателю запрещено говорить правду, буду строить мосты, ведь я по диплому инженер-строитель.
– Но после того, как вы впали в немилость, вам[,] вероятно, не позволят построить даже маленький деревянный мостик... Знаете, что мне сейчас приходит в голову? Поезжайте из Ленинграда в Москву на лошадях по тому самому маршруту, по какому когда-то проехал Радищев. Его книга была безотрадной. Да и как он мог увидеть что-то светлое в разгар крепостного права? А теперь вы проедете по зажиточным колхозам и убедитесь воочию в «торжестве сталинской политики».
– Но где взять денег на лошадь и дорожные расходы?
– Я поговорю с друзьями, мы поможем вам собрать необходимую сумму. А чтобы вам не было скучно во время путешествия, с вами поедет кто-нибудь из писателей. Придется, конечно, пригласить специального кучера: ведь лошадь в дороге нужно кормить, за нею нужен присмотр.
2.
Когда Платонов уходил от Ахматовой, она предупредила:
– Если попытаетесь вызвать меня по телефону, приготовьтесь заранее к неприятностям. У нас телефон общего пользования, висит в коридоре, далеко от моей комнаты. Я не могу слышать звонка. Подойдет кто-то другой. Когда вы скажете: «Позовите Ахматову», вам в ответ могут рассмеяться и повесить трубку. Наберитесь терпения и позвоните еще. Другой голос скажет: «Ахматову? Эту психопатку? Я не обязан быть ее курьером...». Не падайте духом, позвоните в третий раз. Свет не без добрых людей. Есть чуткие души и в нашем доме, для которых не составит труда постучать мне в дверь.
– Вот в каких условиях, в каком зверском окружении живет лучшая поэтесса России, тончайший лирик, психолог женской души, – страдал душою Платонов.
Идея Ахматовой была осуществлена: лошадь куплена, кучер нанят. С Платоновым пожелал отправиться в путешествие молодой поэт – энтузиаст, собиравший материалы для поэмы о величии нашего времени.
Путешествие продолжалось больше двух недель.
– Каковы ваши впечатления? – спрашивала в письме Ахматова.
– Если я опишу, не кривя душой, голод, лишения, разорение, нищету, слезы, жалобы, бесправие и безвыходность в колхозах, меня повесят публично по приказу Сталина на одном из зубцов кремлевской стены, – писал в ответ Платонов, посылая письмо с оказией из-за боязни цензуры.
Молодой поэт после увиденного надолго лишился способности восторгаться советскими достижениями.
– Зачем я поехал? Ах, какой я дурак! Никуда не выезжая из Ленинграда, я написал бы то, что нужно партии и правительству. А теперь не могу. У меня застыла душа[,] и я не найду нужных слов. Боже, какая невеселая жизнь везде, за исключением Ленинграда и Москвы. Какой я непроходимый идиот! И дернул меня черт окунуться в реальность. Ведь я должен был знать, что действительность всегда была врагом поэтического вымысла, мечты, фантазии!
Однажды в государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) позвонили из Кремля:
– Позовите к телефону директора издательства.
Подошел Накоряков.
– Не отходите от трубки: сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин.
Дрогнуло сердце старого партийца-политкаторжанина: не очень-то приятно говорить с хозяином страны по телефону, вероятно будет распекать за что-нибудь.
– Это говорит Сталин.
– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
– Здравствуйте, Накоряков. Скажи, как живет Андрей Платонов?
Сказать: «Не знаю» – неудобно, будет ругать: «Какой же ты директор главного издательства художественной литературы, если не знаешь, как живут и что делают писатели?»
– Помаленьку, Иосиф Виссарионович.
– Заходит в издательство?
– Изредка заходит.
– Предлагал что-нибудь для издания?
– Предлагал, но редакторы боятся принимать рукописи этого писателя.
– С каких пор редакторы стали такими боязливыми?
– С тех пор, Иосиф Виссарионович, как вы наложили резолюцию на его повести: «Это не пойдет писателю впрок».
– Какие глупости! Это же было шесть лет тому назад. За шесть лет человек мог переменить свои позиции. Он же талантлив, как дьявол, а талантливыми людьми нельзя швыряться. Их надо приручать, перевоспитывать, делать стопроцентно советскими.
– Согласен с вами, Иосиф Виссарионович.
– Предложи ему поехать в колхоз, только не в задрипанный, где колхозники щелкают зубами, а в зажиточный, благоустроенный. Пусть понаблюдает непредубежденными глазами и напишет что-нибудь так, как он может написать. Я только вчера перечитал его злую повесть «Впрок». Большой талант, но талант вредный. А мы должны переделать его в полезный. Завтра же вызови его и поговори по душам. Через три дня я позвоню. До свиданья.
В тот же час к Платонову был послан курьер с письмом, в котором срочно предлагалось зайти в издательство. Такие приглашения, в противуположность вызовам советской милиции всегда приятны. Писатель явился незамедлительно. Доложили Накорякову.
– Очень приятно. Прошу.
– Чем объяснить такую необычайную любезность, – думал смущенный писатель, – уж нет ли здесь какого подвоха?
– Пожалуйста садитесь.
Директор протянул портсигар с дорогими папиросами.
– Если бы это был кабинет не издательства, а хорошего ресторана, мы бы с вами знали как провести время, но это, надеюсь[,] от нас не уйдет. Рассказывайте, как живете. Говорите, как на духу. Никто ничего не узнает.
– Плохо живу, товарищ Накоряков. Сын в тюрьме. Шесть лет не печатаюсь. В издательствах от меня воротят нос, как от зачумленного. Вы первый не побоялись встретится со мной по-человечески.
– Да, теперь все трусы и перестраховщики. Противно это. В прежнее время попал человек в беду – и все спешат ему помочь словом, делом, дружеским участием. А теперь оступился человек – и все от него отворачиваются, боятся руку подать, за пять километров квартиру обегают, даже с его родными прекращают всякое знакомство. Подлое шкурничество!
– Увы, это стиль нашей жизни, – тяжело вздохнул писатель.
– Давайте общими усилиями переделывать этот стиль.
– О, это непосильная для нас задача. Реки не текут вспять. Установки НКВД – закон для всех.
– Разве НКВД запрещает посылать письма и посылки в концентрационные лагеря? Нет, не запрещает. А ведь некоторые субъекты боятся что-нибудь послать даже родному брату. «Меня возьмут на заметку за то, что я поддерживаю связь с врагом народа», – рассуждает трус и близкого человека бросает на произвол судьбы.
– Все напуганы, все живут в постоянном страхе, товарищ Накоряков.
– Но я пригласил вас не для дискуссии на тему о страхе советских людей. Скажите, не хотели бы вы прокатиться в какой-нибудь хороший колхоз.
– Не так давно я проехал на лошади от Ленинграда до Москвы. Колхозов видел множество, но хороших среди них – ни одного.
– Сейчас пишут много восторженных статей о колхозе «Победа» Рыбновского района, Рязанской области. Кстати, это рядом с селом Константиновым, родиной Сергея Есенина. Недавно кинорежиссер Медведев снимал там большой фильм с участием народного хора имени Пятницкого.
– У меня нет денег на дорогу, товарищ Накоряков.
– Так неужели вы думаете, что я предлагаю вам поехать за свой счет? Какая сумма вас устроит?
– Ну, хотя бы рублей сто.
– Я вам дам триста.
«Как это хорошо, – подумал писатель, – сто рублей возьму с собой, а двести оставлю на хозяйство жене. Она совсем замучилась, бедняжка, стучать с утра до вечера на пишущей машинке».
– Если ничего не напишете, денег назад не потребую, – предупредил директор издательства.
– Большое спасибо.
Ровно через три дня в издательство снова позвонили из Кремля.
– Здравствуйте, товарищ Накоряков. Говорит Сталин.
– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
– Говорил с Платоновым?
– Говорил Иосиф Виссарионович, предложил поехать в село Федякино, теперь это колхоз «Победа».
– Сколько дал денег?
– Пятьсот рублей, – соврал директор.
– Зачем пожадничал? Почему не дал тысячу? Талантливых людей нельзя прижимать. Талантливый за каждый рубль уплатит сторицей. Я скажу о Платонове Кагановичу. Он собирается привлечь писателей для создания книг о лучших железнодорожниках страны. Пусть в первую очередь пригласит Платонова.
– Иосиф Виссарионович, Платонов очень подавлен тем, что его несовершеннолетний единственный сын сидит в тюрьме по 58-ой статье. Когда мальчик был схвачен на улице, ему не было полных пятнадцати лет. Мне кажется, здесь какое-то недоразумение.
– Скажу об этом Лаврентию, пристыжу его за то, что избивает не вифлеемских, а московских младенцев. Это мог делать дегенерат Ежов, но Берии это непростительно.
– До свидания, товарищ Накоряков.
– До свидания, Иосиф Виссарионович.
Через неделю в издательство зашел Платонов.
– Ну, как дела? – спросил директор издательства.
– Федякинский колхоз нельзя сравнивать с теми, которые я видел между Ленинградом и Москвой, но все же мне, после повести «Впрок» не хотелось бы касаться колхозной темы, не лежит к ней душа.
– А что скажете о железнодорожной теме.
– Приветствую все, что связано с железной дорогой.
– Вот и прекрасно. Три дня тому назад мне звонил Каганович, просил порекомендовать талантливых авторов. Я в первую очередь назвал вас. Он просил зайти в культотдел наркомата путей сообщения для заключения договора.
– Спасибо, товарищ Накоряков, вы отнеслись ко мне, как родной отец. Чем я смогу отблагодарить вас?
– Хорошей книгой. Сын ваш, по всем признакам, должен скоро вернуться домой.
– Не знаю, как вас благодарить.
В тот же день Платонов подписал договор на книгу рассказов о железнодорожниках и получил авансом 1 200 рублей. В наркомате писателю посоветовали посетить целый ряд железнодорожных узлов для сбора материала.
С жаром принялся писатель за работу. Жена писателя несколько раз посетила канцелярию НКВД и ее всякий раз уверяли, что сын скоро будет на свободе.
Прошло несколько месяцев. И вот, в один прекрасный день, писатели, критики и общественные деятели Москвы получили приглашения от издательства «Советский писатель» на творческий вечер Андрея Платонова.
– Слава Богу, – сказал каждый, получивший пригласительное письмо, – значит конец остракизму, приглашает издательство, а это хороший признак: по-видимому, книга уже одобрена и принята к печати.
Издательство помещалось на десятом этаже, в Большом Гнездниковском переулке. Два лифта не останавливались ни на минуту. Публика валом валила на вечер. Конференц-зал заполнялся очень быстро. Запоздавшие толпились у двух дверей в коридоре. Собрание открыла партийка, дочь Феликса Кона, критик Усиевич. Она предоставила слово «Товарищу Платонову». В зале водворилась тишина. У некоторых на глазах были слезы радости за писателя. Все были уверены, что услышат что-то значительное. Каждый был охвачен каким-то особенным трепетом.
* * *
Через неделю после этого вечера из Вологодской тюрьмы вернулся сын писателя – Анатолий Платонов. Теперь ему было 17 лет. По виду ему можно было дать тридцать. Во рту не было почти ни одного зуба.
– Сынок, они били тебя по зубам? – спросила мать.
– Нет, меня сделала беззубым цинга, – ответил сын.