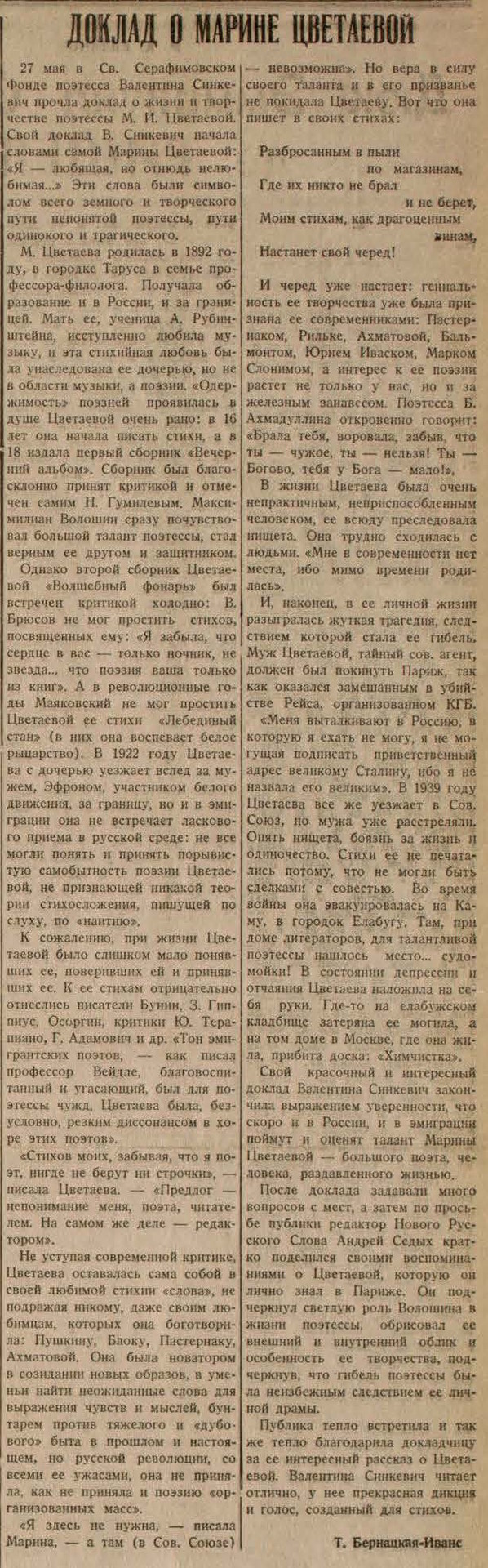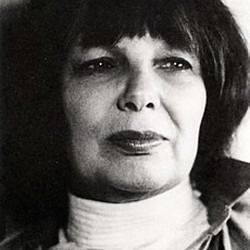Tatiana Bernatskaia-Ivans. A Talk on Marina Tsvetaeva

- Paratext
-
Source Type
- June 1973
-
Date
27 мая в Св. Серафимовском Фонде поэтесса Валентина Синкевич прочла доклад о жизни и творчестве поэтессы М.И. Цветаевой. Свой доклад В. Синкевич начала словами Марины Цветаевой: «Я – любящая, но отнюдь не любимая…» Эти слова были символом всего земного и творческого пути непонятной поэтессы, пути одинокого и трагического.
М. Цветаева родилась в 1892 году, в городке Таруса в семье профессора-филолога. Получила образование в России и за границей. Мать ее, ученица А. Рубинштейна, исступленно любила музыку, и эта стихийная любовь была унаследована ее дочерью, но не в области музыки, а поэзии. «Одержимость» поэзией проявлялась в душе Цветаевой очень рано: в 16 лет она начала писать стихи, а в 18 издала первый сборник «Вечерний альбом». Сборник был благосклонно принят критикой и отмечен самим Н. Гумилевым. Максимилиан Волошин сразу почувствовал большой талант поэтессы, стал верным ее другом и защитником.
Однако второй сборник Цветаевой «Волшебный фонарь» был встречен критикой холодно: В. Брюсов не мог простить стихов, посвященных ему: «Я забыла, что сердце в вас – только ночник, не звезда… что поэзия ваша только из книг». А в революционные годы Маяковский не мог простить Цветаевой ее стихи «Лебединый стан» (в них она воспевает белое рыцарство). В 1922 году Цветаева с дочерью уезжает вслед за мужем, Эфроном, участником белого движения, за границу, но и в эмиграции она не встречает ласкового приема в русской среде: не все могли понять и принять порывистую самобытность поэзии Цветаевой, не признающей никакой теории стихосложения, пишущей по слуху, по «наитию».
К сожалению, при жизни Цветаевой было слишком мало понявших ее, поверивших ей и принявших ее. К ее стихам отрицательно отнеслись писатели Бунин, З. Гиппиус, Осоргин, критики Ю. Терапиано, Г. Адамович и др. «Тон эмигрантских поэтов, – как писал профессор Вейдле, [–] благовоспитанный и угасающий, был для поэтессы чужд. Цветаева была, безусловно, резким диссонансом в хоре этих поэтов».
«Стихов моих, забывая, что я поэт, нигде не берут ни строчки», – писала Цветаева. – «Предлог – непонимание меня, поэта, читателем. На самом деле – редактором».
Не уступая современной критике, Цветаева оставалась сама собой в своей любимой стихии «слова», не подражая никому, даже своим любимцам, которых она боготворила: Пушкину, Блоку, Пастернаку, Ахматовой. Она была новатором в созидании новых образов, в уменьи найти неожиданные слова для выражения чувств и мыслей, бунтарем против тяжелого и «дубового» быта в прошлом и настоящем, но русской революции, со всеми ее ужасами, она не приняла, как не приняла и поэзию «организованных масс».
«Я здесь не нужна, – писала Марина, – а там (в Сов. Союзе) – невозможна». Но вера в силу своего таланта и в его призванье не покидала Цветаеву. Вот что она пишет в своих стихах:
Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед!
И черед уже настает: гениальность ее творчества уже была признана ее современниками: Пастернаком, Рильке, Ахматовой, Бальмонтом, Юрием Иваском, Марком Слонимом, а интерес к ее поэзии растет не только у нас, но и за железным занавесом. Поэтесса Б. Ахмадулина откровенно говорит: «Брала тебя, воровала, забыв, что ты – чужое, ты – нельзя! Ты – Богово, тебя у Бога – мало!».
В жизни Цветаева была очень непрактичным, неприспособленным человеком, ее всюду преследовала нищета. Она трудно сходилась с людьми. «Мне в современности нет места, ибо мимо времени родилась».
И, наконец, в ее личной жизни разыгралась жуткая трагедия, следствием которой стала ее гибель. Муж Цветаевой, тайный сов. агент, должен был покинуть Париж, так как оказался замешанным в убийстве Рейса, организованным КГБ.
«Меня выталкивают в Россию, в которую я ехать не могу, я не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо я не назвала его великим». В 1939 году Цветаева все же уезжает в Сов. Союз, но мужа уже расстреляли. Опять нищета, боязнь за жизнь и одиночество. Стихи ее не печатались потому, что не могли быть сделками с совестью. Во время войны она эвакуировалась на Каму, в городок литераторов, для талантливой поэтессы нашлось место… судомойки! В состоянии депрессии и отчаяния Цветаева наложила на себя руки. Где-то на елабужском кладбище затеряна ее могила, а на том доме в Москве, где она жила, прибита доска: «Химчистка».
Свой красочный и интересный доклад Валентина Синкевич закончила выражением уверенности, что скоро и в России, и в эмиграции поймут и оценят талант Марины Цветаевой – большого поэта, раздавленного жизнью.
После доклада задавали много вопросов с мест, а затем по просьбе публики редактор [«]Нового Русского Слова[»] Андрей Седых кратко поделился своими воспоминаниями о Цветаевой, которую он лично знал в Париже. Он подчеркнул светлую роль Волошина в жизни поэтессы, обрисовал ее внешний и внутренний облик и особенность ее творчества, подчеркнув, что гибель поэтессы была неизбежным следствием ее личной драмы.
Публика тепло встретила и так же тепло благодарила докладчицу за ее интересный рассказ о Цветаевой. Валентина Синкевич читает отлично, у нее прекрасная дикция и голос, созданный для стихов.