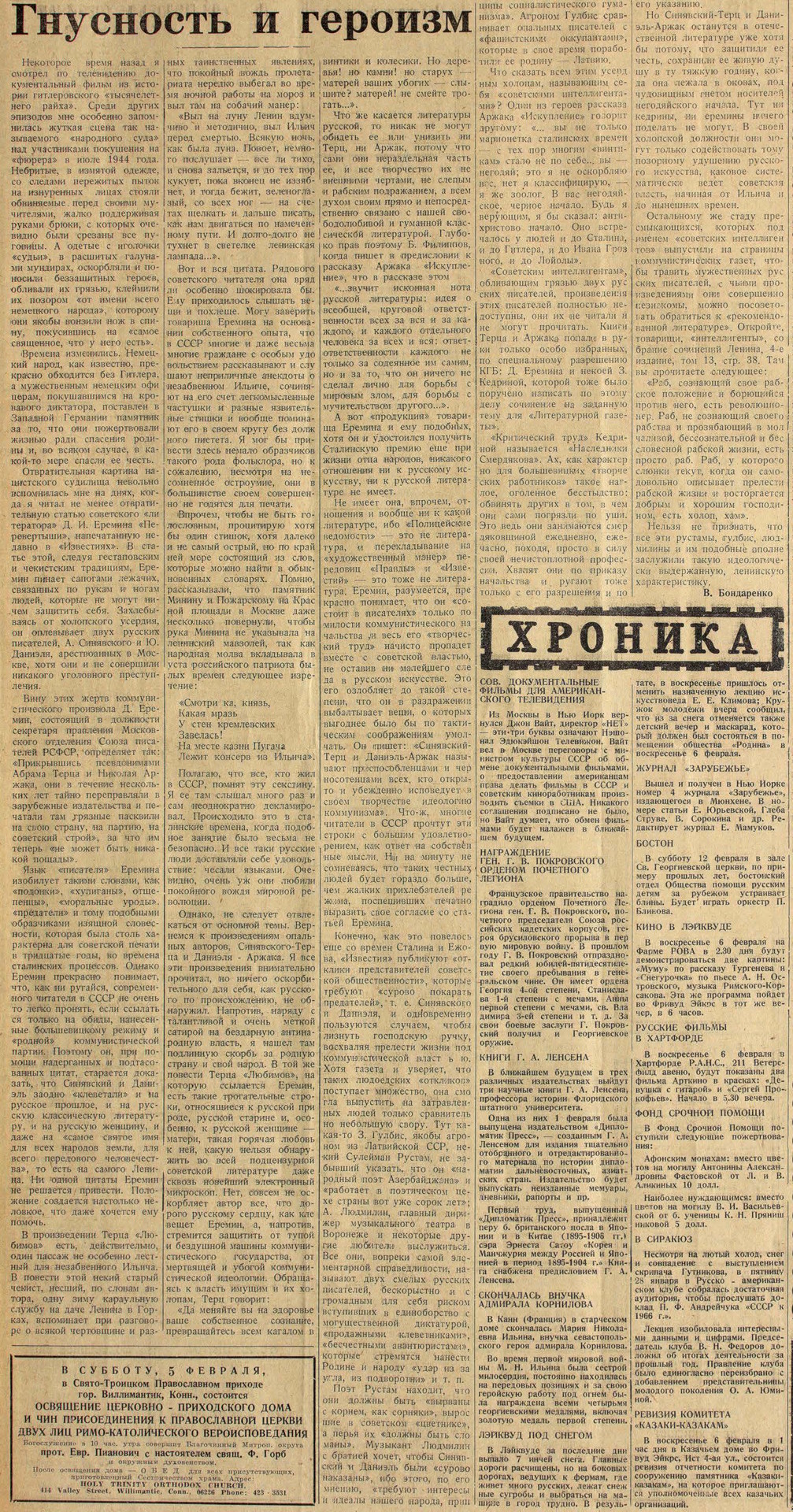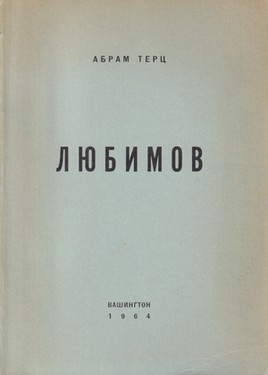V. Bondarenko. Vileness and Heroism
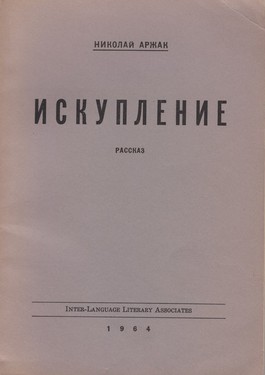
- V. Bondarenko
-
Authors
- Paratext
-
Source Type
- Iskuplenie Preface
- Liubimov Preface
-
Publications
- February 1966
-
Date
Некоторое время назад я смотрел по телевидению документальный фильм из истории гитлеровского «тысячелетнего райха». Среди других эпизодов мне особенно запомнилась жуткая сцена так называемого «народного суда» над участниками покушения на «фюрера» в июле 1944 года. Небритые, в измятой одежде, со следами пережитых пыток на изнуренных лицах стояли обвиняемые перед своими мучителями, жалко поддерживая руками брюки, с которых очевидно были срезаны все пуговицы. А одетые с иголочки «судьи», в расшитых галунами мундирах, оскорбляли и поносили беззащитных героев, обливали их грязью, клеймили их позором «от имени всего немецкого народа», которому они якобы вонзили нож в спину, покусившись на «самое священное, что у него есть».
Времена изменились. Немецкий народ, как известно, прекрасно обходится без Гитлера, а мужественным немецким офицерам, покушавшимся на кровавого диктатора, поставлен в Западной Германии памятник за то, что они пожертвовали жизнью ради спасения родины и, во всяком случае, в какой-то мере спасли ее честь.
Отвратительная картина нацистского судилища невольно вспомнилась мне на днях, когда я читал не менее отвратительную статью советского «литератора» Д. И. Еремина «Перевертыши», напечатанную недавно в «Известиях». В статье этой, следуя гестаповским и чекистским традициям, Еремин пинает сапогами лежачих, связанных по рукам и ногам людей, которые не могут ничем защитить себя. Захлебываясь от холопского усердия, он оплевывает двух русских писателей, А. Синявского и Ю. Даниэля, арестованных в Москве, хотя они и не совершили никакого уголовного преступления.
Вину этих жертв коммунистического произвола Д. Еремин, состоящий в должности секретаря правления Московского отделения Союза писателей РСФСР, определяет так: «Прикрывшись псевдонимами Абрама Терца и Николая Аржака, они в течение нескольких лет тайно переправляли в зарубежные издательства и печатали там грязные пасквили на свою страну, на партию, на советский строй», за что им теперь «не может быть никакой пощады».
Язык «писателя» Еремина изобилует такими словами, как «подонки», «хулиганы», [«]отщепенцы[»], «моральные уроды», «предатели» и тому подобными образчиками изящной словесности, которая была столь характерна для советской печати в тридцатые годы, во времена сталинских процессов. Однако Еремин прекрасно понимает, что, как ни ругайся, современного читателя в СССР не очень[-]то легко пронять, если ссылаться только на обиды, нанесенные большевицкому [sic!] режиму и «родной» коммунистической партии. Поэтому он, при помощи надерганных и подтасованных цитат, старается доказать, что Синявский и Даниэль заодно «клеветали» и на русское прошлое, и на русскую классическую литературу, и на русскую женщину, и даже на «самое святое имя для всех народов земли, для всего передового человечества», то есть на самого Ленина. Ни одной цитаты Еремин не решается привести. Положение создается настолько неловкое, что даже хочется ему помочь.
В произведении Терца «Любимов» есть, действительно, один пассаж, не особенно лестный для незабвенного Ильича. В повести этой некий старый чекист, несший, по словам автора, одну зиму караульную службу на даче Ленина в Горках, вспоминает при разговоре о всякой чертовщине и разных таинственных явлениях, что покойный вождь пролетариата нередко выбегал во время ночной работы на мороз и выл там на собачий манер:
«Выл на луну Ленин вдумчиво и методично, выл Ильич перед смертью. Всякую ночь, как была луна. Повоет, немного послушает — все ли тихо, и снова зальется, и до тех пор кукует, пока вконец не иззябнет, и тогда бежит, зеленоглазый, со всех ног — на счетах щелкать и дальше писать, как нам двигаться по намеченному пути. И долго-долго не тухнет в светелке ленинская лампада…».
Вот и вся цитата. Рядового советского читателя она вряд ли особенно шокировала бы. Ему приходилось слышать вещи и похлеще. Могу заверить товарища Еремина на основании собственного опыта, что в СССР многие и даже весьма многие граждане с особым удовольствием рассказывают и слушают неприличные анекдоты о незабвенном Ильиче, сочиняют на его счет легкомысленные частушки и разные язвительные стишки и вообще поминают его в своем кругу без должного пиетета. Я мог бы привести здесь немало образчиков такого рода фольклора, но к сожалению, несмотря на несомненное остроумие, они в большинстве своем совершенно не годятся для печати.
Впрочем, чтобы не быть голословным, процитирую хотя бы один стишок, хотя далеко и не самый острый, но по крайне мере состоящий из слов, которые можно найти в обыкновенных словарях. Помню, рассказывали, что памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве даже несколько повернули, чтобы рука Минина не указывала на ленинский мавзолей, так как народная молва вкладывала в уста российского патриота былых времен следующее изречение:
«Смотри[-]ка, князь,
Какая мразь
У стен кремлевских
Завелась!
На месте казни Пугача
Лежит консерв из Ильича».
Полагаю, что все, кто жил в СССР, помнят эту секстину. Я ее там слышал много раз и сам неоднократно декламировал. Происходило это в сталинские времена, когда подобное занятие было весьма небезопасно. И все[-]таки русские люди доставляли себе удовольствие: чесали языками. Очевидно, очень уж они любили покойного вождя мировой революции.
Однако не следует отвлекаться от основной темы. Вернемся к произведениям опальных авторов, Синявского-Терца и Даниэля-Аржака. Я все эти произведения внимательно прочитал, но ничего оскорбительного для себя, как русского по происхождению, не обнаружил. Напротив, наряду с талантливой и очень меткой сатирой на бездарную антинародную власть, я нашел там подлинную скорбь за родную страну и свой народ. В той же повести Терца «Любимов», на которую ссылается Еремин, есть такие трогательные строки, относящиеся к русской природе, русской старине и, особенно, к русской женщине — матери, такая горячая любовь к ней, какую нельзя обнаружить во всей подцензурной советской литературе даже сквозь новейший микроскоп. Нет, совсем не оскорбляет автор все, что дорого русскому сердцу, как клевещет Еремин, а, напротив, стремится защитить от тупой и бездушной машины коммунистического государства, от мертвящей и убогой коммунистической идеологии. Обращаясь к власти имущим и их холопам, Терц говорит:
«Да меняйте вы на здоровье ваше собственное сознание, превращайтесь всем кагалом в винтики и колесики. Но деревья! но камни! но старух — матерей ваших убогих — слышите? матерей! не смейте трогать…».
Что же касается литературы русской, то никак не могут обидеть ее или унизить ни Терц, ни Аржак, потому что сами они нераздельная часть ее, и все творчество их не внешними чертами, не слепым и рабским подражанием, а всем духом своим прямо и непосредственно связано с нашей свободолюбивой и гуманной классической литературой. Глубоко прав поэтому Б. Филиппов, когда пишет в предисловии к рассказу Аржака «Искупление», что в рассказе этом
«…звучит исконная нота русской литературы: идея о всеобщей, круговой ответственности всех за вся и за каждого, и каждого отдельного человека за всех и вся: ответственности каждого не только за содеянное им самим, но и за то, что он ничего не сделал лично для борьбы с мировым злом, для борьбы с мучительством другого…».
А вот «продукция» товарища Еремина и ему подобных, хоть он и удостоился получить Сталинскую премию еще при жизни отца народов, никакого отношения ни к русскому искусству, ни к русской литературе не имеет.
Не имеет она, впрочем, отношения и вообще ни к какой литературе, ибо «Полицейские ведомости» — это не литература, и перекладывание на «художественный манер» передовиц «Правды» и «Известий» — это тоже не литература. Еремин, разумеется, прекрасно понимает, что он «состоит в писателях» только по милости коммунистического начальства, и весь его «творческий труд» начисто пропадает вместе с советской властью, не оставив ни малейшего следа в русском искусстве. Это его озлобляет до такой степени, что он в раздражении выбалтывает вещи, о которых выгоднее было бы по тактическим соображениям умолчать. Он пишет: «Синявский-Терц и Даниэль-Аржак называют приспособленцами и черносотенцами всех, кто открыто и убежденно исповедует в своем творчестве идеологию коммунизма». Что-ж, многие читатели в СССР прочтут эти строки с большим удовлетворением, как ответ на собственные мысли. Ни на минуту не сомневаясь, что таких честных людей будет гораздо больше, чем жалких прихлебателей режима, поспешивших печатно выразить свое согласие со статьей Еремина.
Конечно, как это повелось еще со времен Сталина и Ежова, «Известия» публикуют «отклики представителей советской общественности», которые требуют «сурово покарать предателей», т.е. Синявского и Даниэля, и одновременно пользуются случаем, чтобы лизнуть господскую ручку, восхваляя прелести жизни под коммунистической властью. Хотя газета и уверяет, что таких людоедских «откликов» поступает множество, она смогла выпустить на затравленных людей только сравнительно небольшую свору. Тут какая-то З. Гулбис, якобы агроном из Латвийской ССР, некий Сулейман Рустам, не забывший указать, что он «народный поэт Азербайджана» и «работает в поэтическом цехе страны вот уже сорок лет»; А. Людмилин, главный директор музыкального театра в Воронеже[,] и некоторые другие любители выслужиться. Все они, вопреки самой элементарной справедливости, называют двух смелых русских писателей, бескорыстно и с громадным для себя риском вступивших в единоборство с могущественной диктатурой, «продажными клеветниками», «бесчестными авантюристами», которые стремятся нанести Родине и народу «удар из-за угла, из подворотни» и т.п.
Поэт Рустам находит, что они должны быть «вырваны с корнем, как сорняки», выросшие в советском «цветнике», а перья их «должны быть сломаны». Музыкант Людмилин с братией хочет, чтобы Синявский и Даниэль были «сурово наказаны», ибо этого, по его мнению, «требуют интересы и идеалы нашего народа, принципы социалистического гуманизма». Агроном Гулбис сравнивает опальных писателей с «фашистскими оккупантами», которые в свое время поработили ее родину — Латвию.
Что сказать всем этим усердным холопам, называющим себя «советскими интеллигентами»? Один из героев рассказа Аржака «Искупление» говорит другому: «…вы не только марионетка сталинских времен — с тех пор многим “винтикам” стало не по себе… вы — негодяй; это я не оскорбляю вас, нет я классифицирую, — я же зоолог. В вас негодяйское, черное начало. Будь я верующим, я бы сказал: антихристово начало. Оно встречалось у людей и до Сталина, и до Гитлера, и до Ивана Грозного, и до Лойолы».
«Советским интеллигентам», обливающим грязью двух русских писателей, произведения этих писателей полностью недоступны, они их не читали и не могут прочитать. Книги Терца и Аржака попали в руки только особо избранных, по специальному разрешению КГБ: Д. Еремина и некоей З. Кедриной, которой тоже было поручено написать по этому делу сочинение на заданную тему для «Литературной газеты».
«Критический труд» Кедриной называется «Наследники Смердякова». Ах, как характерно для большевицких [sic!] «творческих работников» такое наглое, оголенное бесстыдство: обвинять других в том, в чем они сами погрязли по уши. Это ведь они занимаются смердяковщиной ежедневно, ежечасно, походя, просто в силу своей нечистоплотной профессии. Хвалят они по приказу начальства и ругают тоже только с его разрешения и по его указанию.
Но Синявской-Терц и Даниэль-Аржак останутся в отечественной литературе уже хотя бы потому, что защитили ее честь, сохранили ее живую душу в ту тяжкую годину, когда она лежала в оковах, под чудовищным гнетом носителей негодяйского начала. Тут ни кедрины, ни еремины ничего поделать не могут. В своей холопской должности они могут только содействовать тому позорному удушению русского искусства, каковое систематически ведет советская власть, начиная от Ильича и до нынешних времен.
Остальному же стаду пресмыкающихся, которых под именем «советских интеллигентов» выпустили на страницы коммунистических газет, чтобы травить мужественных русских писателей, с чьими произведениями они совершенно незнакомы, можно посоветовать обратиться к «рекомендованной литературе». Откройте, товарищи, «интеллигенты», собрание сочинений Ленина, 4-е издание, том 13, стр. 38. Там вы прочитаете следующее:
«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам».
Нельзя не признать, что все эти рустамы, гулбис, людмилины и им подобные вполне заслужили такую идеологически выдержанную, ленинскую характеристику.