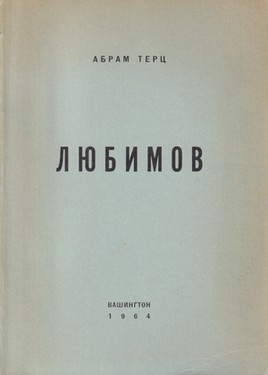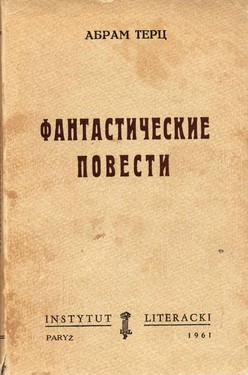Хотя со времени телеграммы московского корреспондента «Нью Йорк Таймз» об аресте литературного критика Андрея Синявского по обвинению в том, что он является автором произведений, нелегально пересланных за границу и здесь опубликованных под псевдонимом Абрам Терц — прошло уже больше двух недель, ни о действительной причине ареста, ни о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Правда, за это время из новых телеграмм той же газеты стало известно, что Андрей Синявский сознался в том, что он автор произведений, пересланных им за границу и появившихся под псевдонимом Абрама Терца («Суд идет», «Фантастические рассказы», «Любимов»).
Этому признанию противостоит заявление Ежи Гедройца, редактора польского журнала «Культура», издающегося в Париже, о том, что Андрей Синявский не Абрам Терц, и в доказательство сообщившего, что в близком будущем появится новое произведение того же Терца.
Кроме того, уже довольно давно имя Терца называется некоторыми заграничными литературоведами в связи с появившейся в 1959 году статьей анонимного автора, посвященной анализу сущности «социалистического реализма».
Трудно читателю со стороны разобраться в том, кто прав в этом споре. Хочется заметить только одно: тому, кто знаком с литературными работами Синявского (назову только некоторые из них: «За поэтическую активность. Заметки о поэзии молодых», книга «Поэзия первых лет революции (1917-1920)», написанная им совместно с другим критиком А. Меньшутиным; очень примечателен отзыв Синявского на книгу стихов американского поэта Роберта Фроста «Пойдем со мной» (1964 г.) и — особенно — его обширная «Вступительная статья» к однотомнику стихотворений и поэм Б. Пастернака (Москва – Ленинград, 1965 г.), — невозможно поверить, что Синявский и Терц — одно лицо: слишком различен литературный климат обоих писателей. Точно так же невероятным — и по тем же причинам — представляется предположение, что Терц является автором упомянутой статьи о социалистическом реализме.
Поскольку зарубежные читатели знакомы с произведениями Терца «Суд идет», «Любимов» и др., хотелось бы ближе познакомить их с литературным обликом Андрея Синявского. Родился он в 1926 году и принадлежит к небольшой группе молодых критиков, выдвинувшихся в пятидесятых годах, как покойный Марк Щеглов, Владимир Турбин, Станислав Рассадин, Владимир Огнев.
В статье «За поэтическую активность», написанной вместе с другим молодым критиком А. Меньшутиным, авторы останавливаются на том, что современная лирика (и особенно лирика молодых), при всем разнообразии тем, голосов и интонаций, создает в читателе настроение, обычно испытываемое перед началом дальнего путешествия. Виной этому отчасти является то, что сюжеты и герои поэзии молодых поэтов связаны с дорожными впечатлениями, дальними маршрутами; множество стихов написаны на Камчатке и на Алтае, в Казахстане и на Енисее. «Иногда кажется, — что все поэты куда[-]то разъехались и в Москве и Ленинграде стихов теперь больше не пишут, а пишут их преимущественно в тайге и тундре» (от себя прибавлю: и в провинциальных центрах!).
Таков запев статьи. А дальше идет вдумчивый анализ лирики А. Вознесенского, Евг<ения> Евтушенко, Вл<адимира> Гордейчева, Б. Цыбина, Б. Ахмадулиной и др. Главным недостатком стихов молодых авторов считают — отсутствие в их творчестве признаков индивидуального взгляда на мир, творческого отношения к жизни и как следствие этого — отсутствия конкретных, неповторимых черт действительности. При всем том — как «знамение времени» следует воспринимать потребность молодых поэтов в более «углубленном вторжении в жизнь», «поиски своего собственного угла зрения на действительность».
Очень интересен отзыв Синявского о книге стихов покойного американского поэта Роберта Фроста, незадолго до своей кончины посетившего Советский Союз. Книга его стихов «Пойдем со мной» со[с]тавлена из стихов девяти книг Фроста. В числе переводчиков его стихов — поэт Михаил Зенкевич и покойный литературовед Иван Кашкин (знаток и друг Хемингвэя [sic!]). В отдельных образцах эта книга, по мнению Синявского, довольно широко охватывает наследие Фроста, «доносит дыхание его поэтического мира». Синявский считает, что искусство больших художников имеет «несколько уровней глубины… Сама природа искусства предполагает многомерное — для разных людей разное погружение в мир художественных образов». Недаром каждая эпоха «заново прочитывает классиков».
Именно это особое чувство «затягивающей глубины, ощущение убегающей перспективы возникает у вас, когда вы впервые вступаете в поэзию Фроста… Он воспроизводит действительность преимущественно в таких поворотах, что картина им нарисованная, сама мало-помалу вас заманивает и затягивает… Его картины стереоскопичны. Они обступают зрителя, как деревья в лесу, за которым то и дело проглядывают другие стволы и просветы, создающие иллюзию, что там за поворотом, будет достигнута цель, которую мы невольно преследуем, пока не замечаем, что лесу нет конца…».
Русскому читателю, — замечает Синявский, — может показаться странным, что в большом и вместительном мире поэта не нашлось места индустриальному городу. В его стихах читатель не найдет ни машин, ни небоскребов, зато часто будет встречать цветы и деревья «с душою живых существ». Фроста не влекли к себе «урбанистические мотивы». Но при всем этом он поэт ярко выраженного национального и притом современного склада. Его тяготение к сельской жизни, к провинции — не случайно: философско-эстетическая направленность его лирики прочно связана с идеалом цельного, здорового человека, с традициями борьбы за независимость Америки, с верностью демократии Франклина, Джефферсона, Линкольна. Хотя Фрост не совпадает с [с]овременными темпами, он «смотрит в глубь вещей[»,] и потому его медлительный, задумчивый шаг подчас обгоняет их… Все его творчество звучит как приглашение в дорогу, где за любой безделицей скрывается новое чудо…».
Из этого беглого пересказа оценок Синявского читатель вероятно уже уловил, что сам Синявский по своему восприятию — критик-поэт[,] и охотно веришь, что он был другом покойного Бориса Пастернака. Это становится очевидным при чтении его вступительной статьи к упомянутому выше однотомнику стихотворений и поэм Пастернака, вышедшему летом нынешнего года. Статья занимает 50 страниц и по вдумчивости и проникновению в творческий мир Пастернака ей нелегко найти равную.
Крупнейшей вехой на литературном пути молодого Пастернака Синявский считает вышедшую в 1917 году книгу стихов «Сестра моя — жизнь». Именно в ней наиболее ярко выражено основное мироощущение поэта — «удивление перед чудом существования — вот поза, в которой застыл Пастернак, навсегда пораженный, завороженный своим открытием». Центральное место в лирике Пастернака принадлежит природе, и зарождение искусства в недрах природы — любимая тема поэта. Отсюда такое часто встречающееся в его лирике перенесение литературных терминов в пейзажи:
Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли…
Эта «передача авторских прав пейзажу — служит, в общем, одной цели: предлагая нашему вниманию стихи, сочиненные самой природой, автор как бы удостоверяет нас в их подлинности». А «подлинность образа является для Пастернака высшим критерием искусства». Вся его поэтическая практика проникнута заботой: «суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». Еще будучи совсем молодым, Пастернак писал: «Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». Реализм в [п]астернаковском понимании присущ всякому истинному искусству и обнаруживает себя в творчестве Толстого, Лермонтова, Шопена и Блока, Шекспира и Верлена…
Много внимания уделил Синявский поэтическому языку Пастернака. В поисках новых слов, которые помогли бы вернуть миру индивидуальное лицо, Пастернак обратился к живой разговорной речи и принял участие «в той решительной демократизации поэтического языка», которая увлекла многих поэтов (особенно бурно — Маяковского). Пастернак не гнушался вводить в высокую речь поэзии «низкий язык жизни, городской современности». Уже эти особенности поэтического языка Пастернака начисто опровергают измышления официальных критиков о том, что поэт оставался глух к своей современности (первые официальные критики Пастернака любили в виде иллюстрации [п]астернаковской «глухоты» приводит[ь] стр[о]чки поэта: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» — В. А.). Но сам поэт уже в своей книге «Сестра моя — жизнь» видел «некий параллелизм революционной современности и даже считал ее книгой о революции». И история действительно рано вошла в творчество поэта и в стихах[,] и в серии его поэм. Тема революции в лирике Пастернака «ощутима как силовой напор, эмоциональная настроенность образов, объединяющих говор толпы с митингом дорог и деревьев»…
Из старших современников Синявский выделяет в поэтической биографии Пастернака Блока и ссылается при этом на «Автобиографию», которая в Советском Союзе не была напечатана: «Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из всех Петербургов… В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такою нервною… что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира»…
Особенно ценным в это[й] вступительной статье Синявского представляется то внимание, которое критик уделил мыслям Пастернака, часто высказывавшимся им в связи с его переводами трагедий Шекспира. Синявский цитирует статью поэта, появившуюся в Первом сборнике «Литературной Москвы» (1956 г.), в которой поэт характеризует «Гамлета»: — ««Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, несущественно, что напоминание о лживости мира приходит в сверх[ъ]естественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» — драма высокого жребия, заповедного подвига, вверенного предназначения»…
Арест Синявского, литературного критика, так умеющего помочь читателям почувствовать своего крупнейшего поэта-современника, бросает зловещий свет на жизнь писательской общественности в Советском Союзе.
В. Александрова