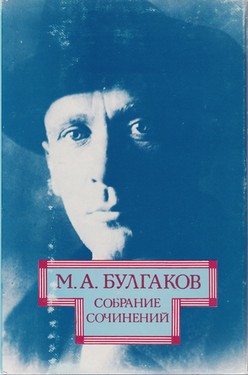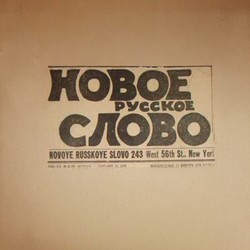Большой успех спектакля «Дни Турбиных» в Нью-Йорке невольно всколыхнул в душе воспоминание об авторе пьесы, безвременно ушедшем Михаиле Булгакове.
Вдумываясь в биографии светских писателей, часто поражаешься, как в сущности короток, трагичен и скоропреходящ век современного русского писателя. Имя Михаила Булгакова, одного из пионеров советской литературы, сегодня даже не упоминается в книгах по истории советской литературы. Нет его и в Литературной Энциклопедии. И только в Большой Советской Энциклопедии (да и то[,] вероятно[,] потому, что соответствующий том вышел в 1927 году) Булгакову посвящено полстолбца. Перечислив только важнейшие произведения писателя – роман «Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных» и «Зойкину квартиру», автор статьи с упреком замечает: «Изображая белогвардейщину на Украине, лично пережитую автором, Булгаков пытается свалить “вину белогвардейца” на генералитет, изображая рядовых белогвардейцев доблестными и политически честными». Самый успех пьес Булгакова приписывается не их литературным достоинствам, а работе актеров Московского Художественного Театра и театра им. Вахтангова. Статья в энциклопедии заканчивается указанием, что в литературном отношении Булгаков следовал традициям «дворянской литературы»: в разработке мотивов умирающего дворянства писатель «продолжал линию реалистического романа», а в изображении советской действительности применял приемы «юмористической повести» и «использовал теневые стороны советской действительности в целях ее дискредитации и осмеяния»; «такой характер устремлений Булгакова ставит его на крайний правый фланг современной русской литературы, делая его художественным выразителем правобуржуазных слоев нашего общества».
Как мало похожа эта бездумно-чиновничья реляция, уснащенная всеми ходкими в двадцатых годах определениями – «дворцовая литература», «правобуржуазный лагерь» – на горячую жизнь, в которой сгорел писатель!
Михаил Булгаков родился в 1891 году в Киеве и здесь же в 1916 году окончил с отличием университет по медицинскому факультету. Судьба так сложилась, что ни этим знанием, ни отличием не пришлось ему долго пользоваться. «Как-то ночью, в 1916 году – рассказал Булгаков в своей коротенькой автобиографии – глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина», он написал свой первый рассказ и снес его в редакцию газеты того случайного города, куда его на время забросила судьба. Рассказ напечатали. В следующем году, оставив профессию врача, он стал писателем. Сперва сотрудничал в Берлинской газете «Накануне», потом перебрался в Москву. Здесь долго мучился в поисках заработка, был репортером и фельетонистом.
Не при свете свечки, а при тусклой электрической лампочке написал он книгу «Записки на манжетах», которую должно было выпустить, но не выпустило издательство «Накануне». В сокращенном виде эти «Записки на манжетах» появились в Ленинградском журнале Россия в 1923 году (к сожалению, этого номера «России» в Нью-Йорке нет). Трудности, с которыми встретился Булгаков при опубликовании «Записок на манжетах», – увы – стали для него обычными. Обладая изумительным писательским слухом в отношении своей бурной современности (этим качеством, кроме Евгения Замятина, владели очень немногие молодые писатели), Булгаков очень рано познал горечь писателя, дерзнувшего, по слову Гоголя, «вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами, и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных характеров». Юмор Булгакова (см. его «Зойкину квартиру» или «Похождения Чичикова») редко был безобиден, он чаще напоминал злой смех Салтыкова-Щедрина. Редакторы альманахов и толстых журналов, хотя и рады были заполучить произведение Булгакова, пользовавшегося популярностью у читателей, боялись его, так как всегда знали, сколько предстоит им хождений по цензурным мукам пока удастся добиться опубликования очередной повести писателя.
В качестве иллюстрации угрюмого смеха Булгакова напомню его рассказ «Роковые яйца». Большой русский ученый зоолог Персиков открыл «луч жизни», под действием которого зародыш начинает молниеносно расти и в свою очередь молниеносно размножаться. Весть об открытии доходит до начальства. За Персиковым ухаживают, ему звонят из Кремля, торопят ученого с выводами. Но Персиков говорит, что его открытие еще нуждается в тщательной проверке и просит начальство выписать ему для опытов яйца редких пород змей. Одновременно с открытием Персикова, в Смоленской губернии началась куриная чума, в несколько дней выкосившая все птичье поголовье чуть ли не в трех губерниях. Заведующий совхозом Александр Степанович Рокк, до революции скромный работник в концертном ансамбле «маэстро Петухова», случайно присутствовал на докладе Персикова и загорелся смелым планом[,] как восстановить в «ударном порядке» убытки, понесенные советским птицеводством. Обладая по партийной линии большими связями, Рокк добивается, несмотря на энергичные протесты Персикова, передачи ему всей научной аппаратуры для получения «луча жизни». В то время, как Персиковские требования на змеиные яйца где-то затерялись, заказ Рокка на куриные яйца исполнялся молниеносно. Однако, благодаря спешке Рокк получает не куриные, а змеиные яйца. Через сутки из этих яиц вылупляются огромные удавы, набрасывающиеся на жену Рокка и других служащих совхоза. Рокку удается бежать, но чудовища двигаются по Можайской дороге прямо на Москву. Весть о катастрофе создает панику в столице. Решено истребить чудовища химической бомбардировкой с аэропланов. Тем временем в Москве начинается народный бунт, разъяренная толпа убивает главного виновника катастрофы... ученого Персикова и сторожа лаборатории.
По мере того как завинчивался цензурный пресс в стране трудности, с которыми сталкивался Булгаков, все росли, в конце концов вынудив его отойти от литературной деятельности и посвятить себя театру. Булгаков сначала работал литературным консультантом при Московском Художественном Театре, а последние пять лет жизни консультантом при Большом Театре. Смерть писателя «Литературной Газетой» не была отмечена ни одной статьей... Только через год, в октябре 1940 года «Дом Актера» организовал вечер памяти ушедшего писателя. Доклад об его творчестве прочитал театральный критик Марков, отметивший, что имя Булгакова тесно связано с историей МХАТ, так как его пьеса «Дни Турбиных» была одной из первых советских произведений на сцене этого театра, «творческий коллектив всегда прислушивался к советам взыскательною художника, владевшего законами литературы и сцены». Заместитель директора Большого театра Я. Леонтьев в своих воспоминаниях выразил сожаление, что в издающийся сборник, произведений Булгакова не вошли написанные им либретто «Рашель» и «Минин и Пожарский». Он же рассказал о том, что Булгаковым было написано новое либретто для советской постановки оперы «Иван Сусанин». Представитель театра им. Вахтангова поделился воспоминаниями о работе театрального коллектива над пьесой Булгакова «Дон-Кихот».
В своей автобиографии Булгакова рассказал, что роман «Белая Гвардия» он писал год и «роман этот я люблю больше всех других моих вещей». Роман этот, конечно, автобиографичен. По своей теме он предвосхищает «Хождение по мукам» Алексея Толстого, над которым Толстой работал двадцать лет. В литературном отношении «Хождение по мукам» более зрелое произведение, но чем-то «Белая Гвардия» и «Дни Турбиных» бесконечно ближе современникам революции. И эта близость с годами не уменьшается, а, наоборот, крепнет. Эта близость возникает уже с эпиграфа к роману из «Капитанской дочки»: «Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновенье темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. – Ну, барин, закричал ямщик: беда – буран!».
В этот снежный океан брошена семья Турбинных. Только вчера еще была уютная столовая с теплой изразцовой печкой, были книжки, молодые споры и вдруг все исчезло. Умерла мать и ее место заняла старшая сестра. «Как жить? Как же жить? Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете». А кругом бушует гроза, льется кровь, «заплатит-ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто... Дешева кровь на червонных полях[,] и никто выкупать ее не будет. Никто». А впереди смерти, предшествуя ей, бежал «некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове и выл»…