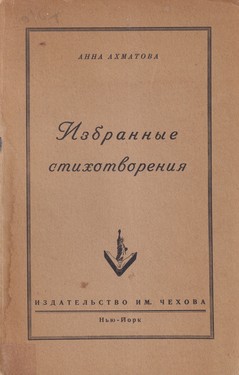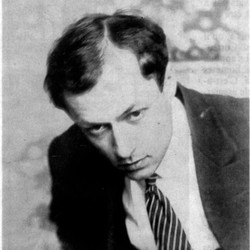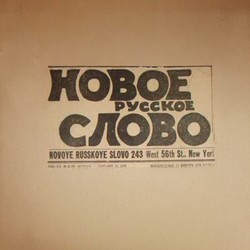Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьёт,
Мечта о спасении скором
Меня как проклятие жжет.
У нее лицо, которое нельзя забыть. Высокий лоб, но с горбинкой, большие глаза, гордые и вместе с тем горестные, изломы губ делают её похожей и на статую античной богини[,] и на лики византийских икон, где есть и холодное величие[,] и в то же время какая-то нежность, соединенная со страстной, метущейся печалью. Именно такой запечатлел ее в экспрессивном, выразительном рисунке Анненков. И вот что необычно: старость не разрушает ее красоты, ибо лицо ее с годами, все больше приобретает необыкновенно тонкую молитвенную одухотворенность.
Ахматова большой русский поэт. Поэзия была для нее жизнью: но она обладала каким-то особенным, лишь немногим свойственным даром – преображать в лирическое стихотворение собственную жизнь.
* * *
Учителем ее был Иннокентий Анненский, поэт и ученый, которому, несмотря на то, что его недооценили, было суждено дать русской поэзии новые трепеты. Об Анненском Ахматова с благодарностью вспоминала всю жизнь. В 1945 году она посвящает своему учителю такие строки:
А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал – всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался, –
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье и задохнулся[.]
* * *
Я учился вместе с сыном Ахматовой, Л.Н. Гумилевым, в Лифли [(]Ленинградский институт философии, литературы, искусства[)]: только Л.Н. был на два курса старше меня. После ареста сына мне довелось несколько раз быть у Ахматовой. Я помогал ей отправлять для сына посылки в Красноярск, в концентрационный лагерь (в последний раз я носил такую посылку на почту весной 1941 года[)].
Как-то, на литературном вечере, устроенном в честь Маяковкого, Ахматова согласилась прочесть стихотворение, посвященное Маяковскому. Это очень удивило одного литературного критика, приобретшего известность еще до революции.
– Зачем вы пошли на это? – спрашивал он ее, – Ведь как дико это звучит: вы и похабные фельетоны полуграмотного Маяковского!...
Ахматова вспыхнула и резко ответила:
– Дело не в фельетонах! И я[,] и Маяковский всю жизнь дышали одной и той же тоской. Но он бежал от своей тоски в политику, а я от своей в православный собор.
Несколько часов спустя после этого разговора Ахматова выступила на вечере со стихотворением «Маяковский в 1913 году».
Я тебя в твоей не знала славе.
Помню только бурный твой расцвет.
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до сих пор.
То, что разрушал ты – разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
В этом стихотворении Ахматова осторожно и чутко подметила драматическую раздвоенность творчества Маяковского: агитатор и эквилибрист слова, снимая кожаную куртку митингового оратора и оставаясь наедине с собой, с собственным одиночеством, претворялся в нежного страдающего лирика. Горечь и скорбь неразделенной любви – главная, основная тема Маяковского. Вот что сближает Маяковского и Ахматову.
* * *
Сын ее был арестован в 1938 году, по обвинению в участии в подпольном кружке «прогрессистов». Несколько ранее, как «агента иностранной разведки» (польской!) арестовали известного византинолога Бенешевича, от которого, видите ли, тянутся нити «к прогрессистам».
«Прогрессисты» [–] рыцари идеи «прогрессивной монархии». Подробностей этого дела я толком не знаю, но убежден, что подпольная группа «прогрессистов» существовала… в воображении следователя ГПУ. Однако, и среди профессоров (и притом далеко не консервативных)[,] и среди студентов нашего университета были люди (и их немало), которые в глубине души таили симпатии к монархическому строю, который они, правда, сильно идеализировали. Льва Гумилева погубило то, что он, в компании студентов, прочел как-то стихотворение своего отца, где говорилось[:] «как тягостно жить, потерявши царя».
Лев Гумилев получил вначале «десять лет без права переписки», и Ахматова долгое время даже не знала, где находится сын, жив ли он или же умер. Когда Ежова сменил Берия, Ахматова решилась пасть на колени перед кремлёвскими владыками, чтобы вымолить прощение для сына.
«На губах холодок от иконки.
Пот на бледном челе не забыт.
Я пойду, как стрелецкие жонки
Под кремлевские стены выть». [sic!]
Я не помню точно, принял ли ее сам Берия или кто-то из его заместителей, но кое-чего ей все-таки удалось добиться[:] из ада для «безнадежных и неисправимых врагов народа», т.е. из лагеря, куда водворены те, кто лишен права переписки, Льва Гумилева перевели в другой лагерь, где переписка дозволена, кроме того[,] юноше скостили срок[:] вместо десяти лет дали восемь. (Сама Ахматова скептически относилась к монархическим восторгам своего сына, но зато стремилась пробудить в нем религиозные чувства[)].
– Перед иконой с равным усердием молились и Михаил Романов[,] и Степан Разин, [–] сказала как-то она своему сыну!
Так на долю этой женщины, темные волосы которой уже посеребрила проседь, выпала капля счастья. Тем более, что этот успех сопровождался другой отрадой: после продолжительного молчания, в 1940 году Ахматова выпустила томик избранных стихотворений[,] куда, кроме уже в разные годы опубликованных стихотворений[,] вошли стихи, написанные в 1922–38 гг., но нигде еще не напечатанные.
О том, каким образом эта книга увидела свет, писалось много. Допускаю, что Светлана Джугашвили[,] дочь Сталина, тоже приложила руку к этому делу.
Но хочу отметить, что в появлении этого сборника далеко не последнюю роль сыграли Юрий Тынянов и артистка камерного театра Алиса Коонен, которая настраивала Всеволода Вишневского (Коонен исполняла главную роль в его пьесе «Оптимистическая трагедия»), чтобы тот замолвил слово за Ахматову. Впрочем, убедить Вишневского было не так трудно: сталинский маршал от драматургии сам доказывал Берия, что писателей старшего поколения нельзя отпугивать вечной неприязнью и вечным недоверием: старикам везде у нас почет: так и заставить их служить «социалистическому отечеству» (иными словами, зачем делать из писателя мученика, когда из него можно сделать лакея?).
* * *
Во время второй мировой войны и после нее Анна Ахматова меняет стиль.
Она создает новое направление, которое [,]быть может[,] уместно определить, как неоимажинизм; направление это ни в коем случае не следует смешивать с имажинизмом двадцатых годов: тогда это был крик литературной моды; сейчас – это хлеб насущный для современного русского литературного языка.
Неоимажинизм связан с творческими поисками специалистов в области литературоведения и истории русского языка. А.А. Потебня, в одной из своих лингвистических работ высказал мысль о том, что нашу речь может рано ил поздно застигнуть врасплох «туберкулез языка[»]: ибо слово, перестав быть образным, как в старину, превратится в математическую формулу, отчего человеческий язык может засохнуть на корню, как цветок, лишенный влаги. Ф.И. Буслаев в диссертации «О влиянии христианства на славянский язык» не соглашается с этим пессимистическим утверждением, полагая, что болезнь языка может быть преодолена творческим воображением писателей и поэтов, из чувств и душ которых в наш литературный язык прольются освежающие родники неологизмов и новых, еще не известных миру художественных образов.
Если мы посмотрим последние работы Виноградова, Обнорского, Томашевского, Щербы и других языковедов и литературоведов, то увидим в них не слишком тщательно скрытый страх перед болезнью современного русского языка, перед его острым малокровием.
Болезнь эта объясняется, во-первых, тем, что тусклые газетные статьи и пошлые пропагандные брошюры впились в русское слово и довели его до дистрофии, во-вторых тем, что новый строй жизни выжег из быта русского крестьянина почти все, что оставалось от фольклора, так бережно хранимого в течение ряда столетий.
Ахматова, видимо, приняла решение посвятить остаток жизни борьбе с болезнью языка. В стихотворении «Мужество» звучит призыв не только спасти Россию от позорного плена, но и спасти русское слово, национальный литературный язык.
«Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не страшно остаться без крова.
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово».
Спасая русскую речь, Ахматова пошла двумя путями. Теперь она – почти пригоршнями, сознательно щедрее и сознательно смелее, нежели прежде – рассыпает по строкам своих стихов поэтические образы.
«Справа раскинулись пустыри
С древней, как мир, полоской зари.
Справа, как виселицы, фонари…»
А с каплей жалости твоей
Живу, как с песней в теле…
* * * *
А вы, мои друзья последнего призыва.
Чтоб вас оплакивать мне жизнь сохранена[.]
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой[,]
А крикнуть на весь мир все ваши имена.
Б.В. Томашевский – в докладе «язык и литература», прочтенном на сессии по литературоведению, состоявшейся, приблизительно, год назад в Москве, предлагает создать при научно-исследовательских институтах своего рода экспериментальные лаборатории по борьбе с болезнью языка. Вряд ли эта затея окажется жизнеспособной и вряд ли она даст сколько-нибудь серьезные положительные результаты: литературный язык уходит своими корнями в разговорную речь народа и может быть предохранен от потускнения только, если эта разговорная речь расцветет от благотворного влияния какой-либо животворящей стихии. Такой стихией в настоящее время уже не может быть фольклор, который вырождается и гибнет, но может быть православная церковь, преданность которой в народном сердце нетленна и неистребима. Поэтому слова церковных песнопений, если выбрать из них самое жизнеспособное, могут вернуть русскому языку утраченную образность и утерянную красоту. Лик Христа не открывается благополучной, хотя бы и относительно, жизни, но открывается страданиям. В сердце народа, который вынужден смотреть смерти в глаза, как сильный костер из маленькой искры, с новой силой вспыхнула порожденная состраданием и уважением к смерти – вера в Бога.
«Да, что там имена – захлопываю святцы.
И на колени все! – Багровый хлынул свет:
Рядами стройными выходят ленинградцы
Живые с мертвыми, для славы мертвых нет[»].
Рассказывают, что после войны в Москве Ахматова как-то пришла на литературный вечер в строгом черном платке, поразительно похожая на монахиню. Зрительный зал был переполнен. Все встали с мест и утроили ей бурную овацию. Перед залом стояла не Ахматова: то была сама православная Русь с часовнями и церквами, со звоном одиноких колоколов, с блеклыми огоньками лампад перед потемневшими образами[,] с горестью деревенских баб, которые, утирая рукавом навернувшие на глаза слезы, робко тянутся в церковь, чтобы хоть ненадолго исцелиться от вечной тоски по тем, кто погиб на войне.
14 августа 1946 года в постановлении ЦК ВКП(б) творчество Ахматовой было объявлено враждебным «передовому» советскому искусству.
Затем она смирилась! В журнале «Огонек» были опубликованы ее новые, вымученные стихи из цикла «слава миру».
«Где Сталин, там свобода
Мир и величие земли».
Каким образом вынудили ее сочинить такие стихи, догадаться не трудно. Но кто из нас посмеет бросить в нее камень?
* * *
В издательстве имени Чехова совсем недавно вышел один томик ее избранных стихотворений.
Сборник объемистый. 254 страницы, и выпуск его надо приветствовать, тем более, что стихи Ахматовой очень трудно достать. Хотелось бы, однако, чтобы были более полно представлены стихи, где отражено молитвенное настроение Ахматовой, и стихи неоиммажинистического [sic!] периода.
Сборнику предпослано вступление, где сжато охарактеризовали творческий путь Ахматовой. В предисловии этом есть один момент, который, как нам кажется, требует пояснений и дополнений.
Поэт, обращаясь к фольклору, может идти двумя путями: путем стилизации или применяя поэтический контрапункт, т.е. принцип одновременного звучания двух мелодий.
Путь стилизации – наиболее легкий. Изредка сворачивала на этот путь и Ахматова, но ее стихи, стилизованные под народные песни («Со дня купальницы Аграфены», «Нет, царевич, не та» и т.д.[)] как раз слабее ее других стихов.
В контрапунктических приемах Ахматова в этом смысле верная ученица Блока, но она виртуознее, глубже, совершеннее, чем в своих же стилизациях.
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил[.]
Ждите глада и труса и мора
И затменья небесных светил.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат[»].
Контрапункт позволяет высокой идее, переложенной на музыку слова[,] прорубить окно в народное творчество, с его несказанной красой песен, легенд, преданий. Тогда в поэтическом образе колыхается и звенит вся Россия с просторами ее полей, озер и лугов.
Такую Русь мы и обретем в поэзии Ахматовой.