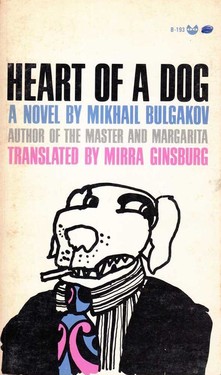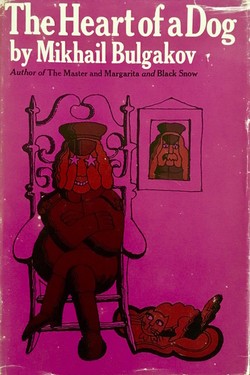В 1925 году Михаил Булгаков, которого помнят по позднему нашумевшему роману «Мастер и Маргарита», написал повесть «Собачье сердце» («Шарик»).
Повесть напечатана не была. И так получилось, что сразу несколько вариантов ее оказалось за железным занавесом. В общем, в самом главном эти варианты сходны и только в частностях наблюдается некоторое несоответствие. Один из вариантов, не лучший, напечатан в девятой книжке журнала «Студент». С двумя другими мне недавно удалось ознакомится. Читал я и повесть «Собачье сердце» в переводе на английский Мирры Гинзбург.
Позднее, когда я прочел и оригинальный текст, мне стало ясно, что Мирра Гинзбург, добиваясь как можно большей точности[,] в то же время стремится передать и художественное своеобразие оригинала. Это и есть самый трудный, но и благодарный для переводчика путь.
На Булгакова, когда он работал над этой повестью, оказали известное влияние мемуары кота Мура, с таким фантастическим блеском изображенного Гофманом. Кроме того, русский автор ввел в свое повествование элементы пародии на фантастический роман Герберта Уэльза «Остров доктора Моро». Но дело не во влияниях. Повесть Булгакова «Собачье сердце» представляет собой драгоценный сплав трех элементов: реалистического, сатирического и фантастического.
Все начинается с того, как Филипп Филиппович, светило медицинских наук (в мировом масштабе) приютил бездомного пса. Затем Шарика путем пересадки гипофиза (мозгового придатка) превращают из собаки в человека. Полиграф Полиграфович Шариков (так нарекло себя существо, которое «произвели» на свет на операционном столе) оказался неблагодарной тварью. Он хамит, грубит, угрожает и даже накатал на Филиппа Филипповича донос в ГПУ, назвал своего «лабораторного отца» меньшевиком, способным совершить террористический акт. Тут беда в том, что в груди у Шарика стало биться не собачье, а человеческое сердце, н[о] порченное и замаранное отвратительными явлениями советской действительности. Булгаков видит уродливую сторону советского бытия и воспитания в коллективном озверении и одичании человеческих душ, в том, что человек превращается в животное, лишенное совести, благородства, чести. Такие собачьи традиции, как преданность хозяину и чувство признательности, имел Шарик, но отбросил. Впрочем, от собачьей жизни у Полиграфа Полиграфовича остались неистребимы страсть к охоте на котов и привычка овладевать особами женского пола молниеносной атакой.
Дело дошло до того, что Филипп Филиппович принял твердое решение путем повторной операции снова превратить человека в собаку. Это хотя и с трудом, но удалось: отвратительный Шариков вернулся в первобытное собачье состояние и стал прежним приветливым Шариком.
Такова повесть «Собачье сердце». Что касается второго, принадлежащего М. Гленни перевода повести, то это скорее пересказ, чем перевод, и пересказ, надо признать, весьма эффектный, способный вызвать и взрывы одобрительного смеха. Гленни надо отдать должное: он искренне увлечен Булгаковым и, как талантливый рассказчик, умеет заразить читателя этой увлеченностью. И все же он не раз поддается искушению «причесать» Булгакова. Напрасно Гленни положился на свой русский язык: в ряде случаев он допускает промахи и ошибки. Правда, он – человек находчивый и умеет блеснуть фейерверком собственных остроумных измышлений в тех случаях, когда те или иные русские слова, фразы, обороты речи становятся для него неразрешимой загадкой.
Так, Шариков в «Собачьем сердце» нашел работу по душе: ловить зазевавшихся котов и отправлять их на живодерню.
Когда Филипп Филиппович справился о том, что ждет «арестованных котов», Шариков ответил:
– …на польты пойдут… Из них белок будут делать на рабочий кредит. Гленни, ничтоже сумняшеся, превратил белок в бел[ó]к, а слова [«]польты[»] не нашел в словаре, там только пальто. И он вложил в уста Шарикова такую фразу – Коты пойдут в лабораторию… на протеины для трудящихся.
Но этим дело не кончилось. Петриша Блэйк, американский эксперт по вопросам русской литературы, в рецензии на произведение Булгакова в переводе Гленни в журнале «Ню Рипаблик» [sic!] (номер от 3 августа) решительно причислила «протеины для трудящихся» к перлам Булгаковского остроумия и нашла, что Гленни блестяще передал это по английски.
Не будем упрекать Петришу Блейк за то, что она лишила Гленни патента на протеины.
Скажем прямо: пересказы Гленни сильно выиграли бы, если б он давал свои рукописи, прежде чем их публиковать, хотя бы на беглый просмотр опытным филологам. Ведь это не единственный его просчет.
Петриша Блейк не всегда сверяет переводы с оригиналом, и это не может, в отдельных случаях, не снизить ценность ее рецензий.
Далее, Петриша Блейк нередко ставит знак равенства между переводом и пересказом, не указывает на различия между ними. А это скорее эмоциональный и меркантильный, чем научный подход к проблеме.