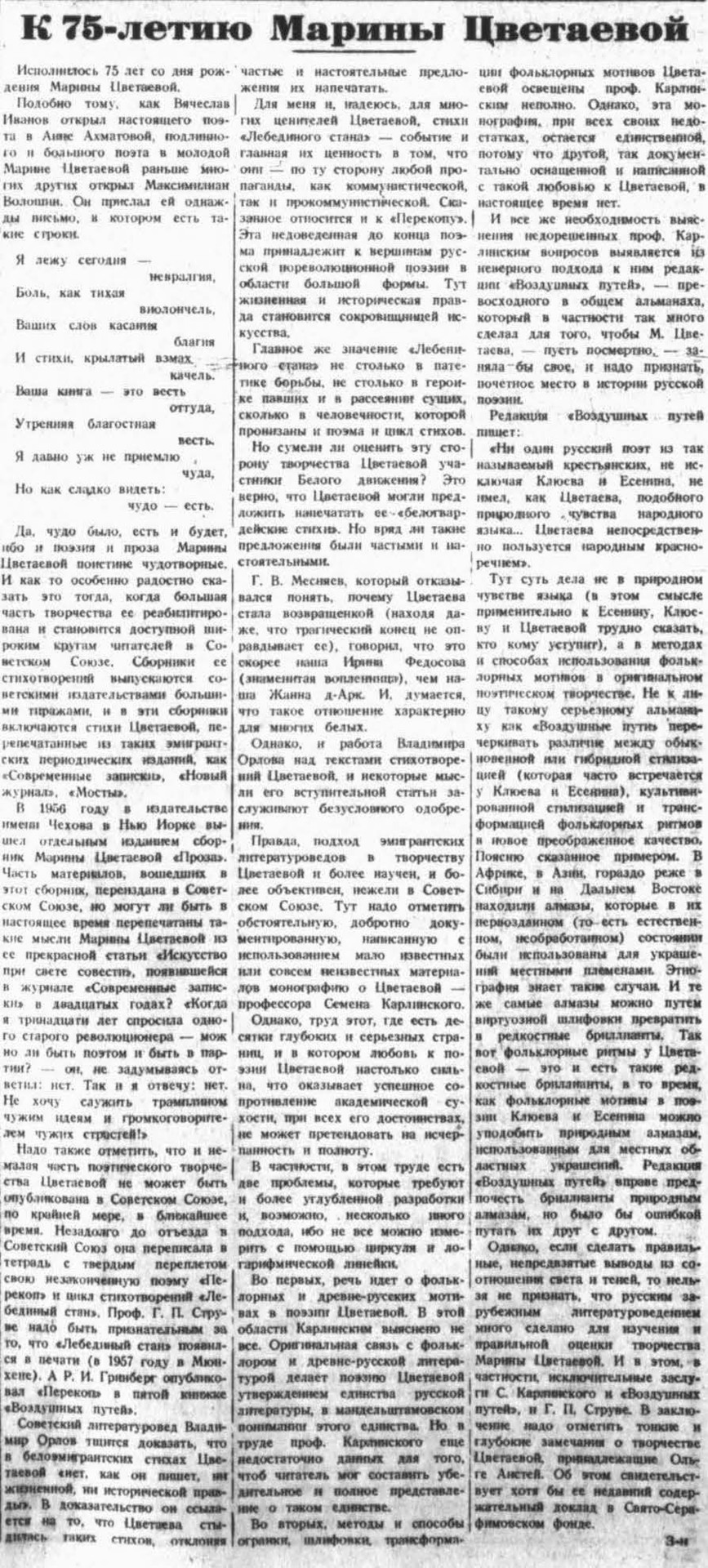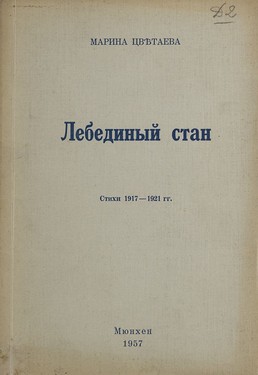Viacheslav Zavalishin. On Marina Tsvetaeva's 75th Anniversary

- Viacheslav Zavalishin
-
Authors
- Paratext
-
Source Type
- Perekop Preface
- Lebedinyi Stan. Stikhi 1917-1921 godov Preface
- Proza Preface
-
Publications
- January 1968
-
Date
Исполнилось 75 лет со дня рождения Марины Цветаевой.
Подобно тому, как Вячеслав Иванов открыл настоящего поэта в Анне Ахматовой, подлинного и большого поэта в молодой Марине Цветаевой раньше многих других открыл Максимилиан Волошин. Он прислал ей однажды письмо, в котором есть такие строки.
Я лежу сегодня –
Невралгия,
Боль, как тихая
Виолончель,
Ваших слов касания
Благия
И стихи, крылатый взмах
Качель.
Ваша книга – это весть
Оттуда,
Утренняя благостная
Весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко видеть:
чудо – есть.
Да, чудо было, есть и будет, ибо и поэзия и проза Мариной Цветаевой поистине чудотворные. И как[-]то особенно радостно сказать это тогда, когда большая часть творчества ее реабилитирована и становится доступной широким кругам читателей в Советском Союзе. Сборники ее стихотворений выпускаются советскими издательствами большими тиражами, и в эти сборники включаются стихи Цветаевой, перепечатанные из таких эмигрантских периодических изданий, как «Современные записки», «Новый журнал», «Мосты».
В 195[3] году в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке вышел отдельным изданием сборник Марины Цветаевой «Проза». Часть материалов, вошедших в этот сборник, переиздана в Советском Союзе, но могут ли быть в настоящее время перепечатаны такие мысли Марины Цветаевой из ее прекрасной статьи «Искусство при свети совести», появившейся в журнале «Современные записки» в двадцатых годах? «Когда я тринадцати лет спросила одного старого революционера – можно ли быть поэтом и быть в партии? – он, не задумываясь ответил: нет. Так и я отвечу: нет. Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужих страстей!»
Надо также отметить, что и немалая часть поэтического творчества Цветаевой не может быть опубликована в Советском Союзе, по крайней мере, в ближайшее время. Незадолго до отъезда в Советский Союз она переписала в тетрадь с твердым переплетом свою незаконченную поэму «Перекоп» и цикл стихотворений «Лебединый стан». Проф. Г.П. Струве надо быть признательным за то, что «Лебединый стан» появился в печати (в 1957 году в Мюнхене). А Р.И. Гринберг опубликовал «Перекоп» в пятой книжке «Воздушных путей».
Советский литературовед Владимир Орлов тщится доказать, что в белоэмигрантских стихах Цветаевой «нет[»], [–] как он пишет, [– «]ни жизненной, ни исторической правды». В доказательство он ссылается на то, что Цветаева стыдилась таких стихов, отклоняя частые и настоятельные предложения их напечатать.
Для меня и, надеюсь, для многих ценителей Цветаевой, стихи «Лебединого стана» – событие, и главная их ценность в том, что они – по ту сторону любой пропаганды, как коммунистической, так и прокоммунистический. Сказанное относится и к «Перекопу». Эта недоведенная до конца поэма принадлежит к вершинам русской пореволюционной поэзии в области большой формы. Тут жизненная и историческая правда становится сокровищницей искусства.
Главное же значение «Лебединого стана» не столько в патетике борьбы, не столько в героике павших и в рассеянии сущих, сколько в человечности, которой пронизаны и поэма[,] и цикл стихов.
Но сумели ли оценить эту сторону творчества Цветаевой участники Белого движения? Это верно, что Цветаевой могли предложить напечатать ее «белогвардейские стихи». Но вряд ли такие предложения были частыми и настоятельными.
Г.В. Месняев, который отказывался понять, почему Цветаева стала возвращенкой (находя даже, что трагический конец не оправдывает ее), говорил, что это скорее наша Ирина Федосова (знаменитая вопленица), чем наша Жанна д’Арк. И, думается, что такое отношение характерно для многих белых.
Однако, и работа Владимира Орлова над текстами стихотворений Цветаевой, и некоторые мысли его вступительной статьи заслуживают безусловного одобрения.
Правда, подход эмигрантских литературоведов к творчеству Цветаевой и более научен, и более объективен, нежели в Советском Союзе. Тут надо отметить обстоятельную, добротно документированную, написанную с использованием малоизвестных или совсем неизвестных материалов монографию о Цветаевой – профессора Семена Карлинского.
Однако труд этот, где есть десятки глубоких и серьезных страниц, и в котором любовь к поэзии Цветаевой настолько сильна, что оказывает успешное сопротивление академической сухости, при всех его достоинствах, не может претендовать на исчерпанность и полноту.
В частности, в этом труде есть две проблемы, которые требуют и более углубленной разработки и, возможно, несколько иного подхода, ибо не все можно измерить с помощью циркуля и логарифмической линейки. Во[-]первых, речь идет о фольклорах и древне-русских мотивах в поэзии Цветаевой. В этой области Карлинским выяснено не все. Оригинальная связь с фольклором и древнерусской литературой делает поэзию Цветаевой утверждением единства русской литературы, в мандельштамовском понимании этого единства. Но в труде проф. Карлинского еще недостаточно данных для того, чтоб читатель мог составить убедительное и полное представление о таком единстве.
Во[-]вторых, методы и способы огранки, шлифовки, трансформации фольклорных мотивов Цветаевой освящены проф. Карлинским неполно. Однако эта монография, при всех своих недостатках, остается единственной, потому что другой, так документально оснащенной и написанной с такой любовью к Цветаевой, в настоящее время нет.
И все же необходимость выяснения недоделанных проф. Карлинским вопросов выявляется из неверного подхода к ним редакции «Воздушных путей», – превосходного в общем альманаха, который в частности так много сделал для того, чтобы М. Цветаева, – пусть посмертно, – занята бы свое, и надо признать, почетное место в истории русской поэзии.
Редакция «Воздушных путей» пишет:
«Ни один русский поэт из так называемых крестьянских, не исключая Клюева и Есенина, не имел, как Цветаева, подобного природного чувства народного языка... Цветаева непосредственно пользуется народным красноречием».
Тут суть дела не в природном чувстве языка (в этом смысле применительно к Есенину, Клюеву и Цветаевой трудно сказать, кто кому уступит), а в методах и способах использования фольклорных мотивов в оригинальном поэтическом творчестве. Не к лицу такому серьезному альманаху[,] как «Воздушные пути»[,] перечеркивать различия между обыкновенной и гибридной стилизацией (которая часто встречается у Клюева и Есенина), культивированной стилизацией и трансформацией фольклорных ритмов в новое преображенное качество. Поясню сказанное примером. В Африке, в Азии, гораздо реже в Сибири и на Дальнем Востоке находили алмазы, которые в их первозданном (то есть естественном, необработанном) состоянии были использованы для украшений местными племенами. Этнография знает такие случаи. И те же самые алмазы можно путем виртуозной шлифовки превратить в редкостные бриллианты. Так вот фольклорные ритмы у Цветаевой – это и есть такие редкостные бриллианты, в то время, как фольклорные мотивы в поэзии Клюева и Есенина Можно уподобить природным алмазам, использованным для местных областных украшений. Редакция «Воздушных путей» вправе предпочесть бриллианты природным алмазам, но было бы ошибкой путать их друг с другом.
Однако, если сделать правильные, непредвзятые выводы из соотношения света и теней, то нельзя не признать, что русским зарубежным литературоведением много сделано для изучения и правильной оценки творчества Марины Цветаевой. И в этом, в частности, исключительные заслуги С. Карлинского и «Воздушных путей», и Г.П. Струве. В заключение надо отметить тонкие и глубокие замечания о творчестве Цветаевой, принадлежащие Ольге Анстей. Об этом свидетельствуют хотя бы ее недавний содержательный доклад в Свято-Серафимовском фонде.
З-н