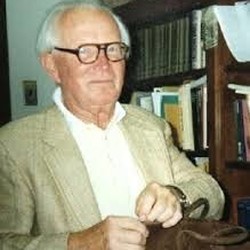Victor Terras. Akhmatova Translated by Under
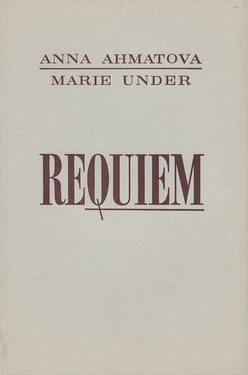
Встреча двух великих поэтесс нашего времени в этой чудесной книге может дать повод для многих размышлений. Алексис Раннит в своем научном и богатом тонкими нюансами предисловии метко отмечает основные различия между мелодикой стиха и темпераментом двух поэтесс: Ундер – это «северный пантеист, а Ахматова – средиземноморский тонко чувствующий творец, созерцатель красоты Парижа и Петрограда»; первой присущ, главным образом, «песенный голос», а второй, напротив, «речевой голос». И в самом деле, реакция Ахматовой на массовые депортации и убийства тридцатых годов является риторической, в более благородном и положительном смысле этого слова. Её преобладающим чувством является пафос, риторично-драматический тон.
Лирик (в более узком смысле слова) выражает свои чувства, не давая себе отчета в том, какое влияние его слова могут оказывать на читателя. Ритор старается поразить своего читателя, растрогать и убедить. Видимо, к этому и стремится Ахматова. В переводе Ундер её стихи приобретают как будто более интимный и лирический тон, хотя их эффект ничуть не теряет трагичности.
Отчасти это, возможно, зависит от того, что в стихах Ахматовой присутствуют литературные переклички, которые в переводе теряются. Так и стихотворный размер посвящения и второй части эпилога «Реквиема» является значимым для ценителя русской поэзии: пятистопный хорей сразу напоминает знаменитое стихотворение М. Волошина «Северовосток», которое, конечно же, схоже и тематически, и в котором тоже возникают несколько прямых откликов. Между прочим, стихотворным метром «популярной» песни сталинского времени «Широка страна моя родная» тоже является пятистопный хорей, и кажется, будто строка «Для кого-то веет ветер свежий» – ироничный отклик на эту песню. Здесь интересно отметить, что Ундер с непогрешимым тактом великого поэта опускает один стих Ахматовой, который имеет смысл только как ответ на стихотворение Волошина. Строки Ахматовой «Где теперь невольные подруги / Двух моих осатанелых лет?» (прилагательное «осатанелый» находится в центре стихотворения Волошина; в данном контексте оно кажется чужим) переведены просто: «Где мои товарищи по несчастью, / Где же они теперь, где?» [“Kus nii mitu minu saatuskaaslast, / Kus küll nemad viibivad nüüd, kus?”].
Амфибрахии эпилога моментально напоминают известное наивно-романтическое стихотворение юной Ахматовой «Сероглазый король» (1910), которое метрически почти полностью совпадает со строками эпилога. «Сероглазый король», ставший так называемым «брендом» Ахматовой, начинается со слов: «Слава тебе, безысходная боль!». Этот поэтический отголосок тоже горько ироничен – в противном случае гладко и легко текущий амфибрахий едва ли подошел бы к трагической форме произведения. Ундер, снова очень тактично обращаясь с оригинальным текстом, в некоторых случаях заменяет слишком гладкий амфибрахий более мощным акцентным стихом.
В строках Ахматовой слышен голос известной поэтессы великого народа, которая чувствует себя признанным глашатаем русской интеллигенции. Ее строки обращены к публике даже там, где она обращается к себе: «Показать бы тебе, насмешнице / И любимице всех друзей, / Царскосельской веселой грешнице, / Что случится с жизнью твоей». Ахматова справедливо полагает, что читателю знакома ее легендарная юность в Царском Селе. Ундер, опять же, с изумительным тактом делает из знаменитой поэтессы «частное лицо», простую, страдающую женщину.
Оригинал Ахматовой драматичнее. Например, она говорит: «Кидалась в ноги палачу, / Ты сын и ужас мой». Ундер это переводит сдержанно, скромно: «Зову тебя домой, горемычная, / Мой сын и моя мука» [“Sind koju kutsun, õnnetu, / Mu poeg ja minu vaev”].
Возможно, эта разница в тоне Ахматовой и Ундер гораздо глубже, чем лишь в поэтической технике и личном темпераменте поэтесс. Русский поэт, пока у него есть вера и сила, все еще знает, что он борется за хорошее и все же не совсем безнадежное дело. Он становится трибуном, который повышает голос, чтобы пробудить совесть, мужественность и стойкость своего народа. Если поэт говорит, что «безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами», то он прекрасно знает, что сама Русь истощает, терзает и убивает «безвинную Русь» с помощью своих же убийц и презренных пособников – собственных сыновей. Ахматова, с тактом ритора, не выражает этого напрямую: её слова обращены к тем соотечественникам, у кого ещё есть совесть.
Точка зрения эстонского поэта совершенно иная. Его народ страдает абсолютно безвинно. Его надежда и избавление совершенно не зависят от его воли. Самая возвышенная риторика вряд ли была бы тут уместна. О страданиях эстонского народа стоит говорить лишь с самим Богом – это общечеловеческий, вечный, метафизический вопрос: почему невиновные должны страдать? Это древний крик de profundis Иова. И именно в таком метафизическом и личном направлении (метафизика – это всегда личная вещь, если она искренняя) движется интерпретация Ундер.
В области формы перевод Ундер также изобилует возможностями для интересных наблюдений. В этой статье я позволю себе остановиться только на некоторых из них. Аллитерация более характерна для эстонской поэзии, чем для русской. Таким образом, Ундер легко справляется с ней и у Ахматовой. Так, например, «И прямо мне в глаза глядит / И скорой гибелью грозит / Огромная звезда» переведено просто великолепно: «И прямо в глаз сверкает / Огромная звезда и грозит / Мне до глубины души» [“Ja otse silma sähvatab / Üks hiigeltäht ja ähvardab / mind hingepõhjani”]. Кроме того, Ундер самостоятельно создает несколько действительно превосходных строк с аллитерацией, например: «Будто грубым клином высечено / на лице страдание, суровое и страшное» [“Kuis nagu karedat kiilkirja raiund / On näole kannatus karm-jubedalt”].
В оригинале у Ахматовой широкое разнообразие стихотворного размера. Ундер старается, по большей части, точно его передать. То же самое можно сказать и о рифме. Однако с ямбическими размерами стиха у нее возникают трудности, в связи с чем вырисовываются определенные принципиальные вопросы в области эстонской стихотворной техники. Возьмем простую ямбическую строчку «Зову тебя домой» (стр. 54), которая переводится как: «Зову тебя домой, горемычная» [“Sind koju kutsun, õnnetu”]. Это совершенно обычная ямбическая строчка, однако мне она кажется нескладной, т.к., например, «Тебя созываю, горемычная» [“Sa kokku kutsund õnnetuid”] звучало бы лучше. Объясню это следующим образом: главным правилом стиха эстонского фольклора является то, что короткий не должен быть ударным, а в слабой доле стопы не должно быть длинного слога. В данном случае главное ударение стоит на «домой» [“koju”], что с точки зрения эстонского фольклора означает, что стих противоречит правилам стихосложения. Естественно, авторские стихи отличаются от народных, однако языковые принципы, являющиеся основами метрики фольклора, должны играть соответствующую роль и в авторских стихах. В данном случае можно сказать, что короткий слог с главным ударением в слове «домой» (которое, к тому же, следует за сверхдлинным слогом!) не является достаточно сильным в просодическом смысле для поддержания ударения в стихе. Стоит сказать, что подобных строк у Ундер крайне мало, в «Реквиеме» всего три-четыре, например еще: «И все же теперь упало каменное слово» [“Ja nüüd siiski kivist sõna langes”] (стр. 59), где основной акцент должен быть на слове «каменное» [“kivist”] (это предполагает оригинал). Кажется, более подходящим по метру было бы «И все же теперь упало тяжко слово» [“Ja nüüd siiski sõna raskelt langes”].
Логично, что рифма – беда переводчика. В изначальном процессе создания стиха рифма не является преградой для мысли, напротив, она – источник вдохновения. В переводе же она остается источником вдохновения в намного меньшей мере, и зачастую скованность рифмой может исказить содержание оригинальна. К тому же эстонский язык более беден в рифмах по сравнению с русским. Ундер – опять же, поступая справедливо – отказалась от воспроизведения рифм Ахматовой и применяла их очень деликатно и незаметно там, где рифма в оригинальном тексте акцентирована и напрямую связана с содержанием. Изредка Ундер становится «жертвой» рифмы, например, в строках «Тихо льётся тихий Дон, / Златой месяц в комнату вошёл» [“Vaikselt voolab vaikne Don,/ Kuldkuu tuppa tulnud on”]. Все остальные рифмы в этом же стихотворении изящны и деликатны, например: «Сын в тюрьме, в могиле муж, / Помолитесь за меня» [“Poeg on vanglas, hauas mees,/ Palvetage minu eest”].
Подводя итог: интерпретация Ундер – больше чем перевод; это и песенное состязание двух великих поэтесс, в котором Ундер русской поэтессе не проигрывает.