- Viktor Frank
-
Authors
- Review
-
Source Type
- The Foundation Pit (1969) Review
-
Publications
- March 1969
-
Date
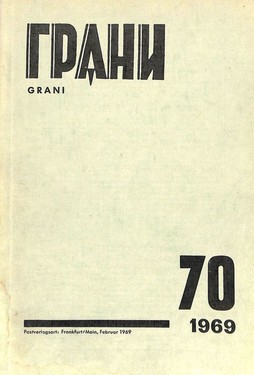
Мне совестно признаться в своем невежестве, но до прошлой недели мне не довелось читать ни одной строки Андрея Платонова. На прошлой же неделе я прочел его повесть «Котлован» и рассказ «Семен». «Котлован» был написан Андреем Платоновым в начале 30-х годов, но так до сих пор и остался неопубликованным на родине писателя. Теперь же он впервые напечатан за границей, в русском журнале «Грани», выходящем во Франкфурте. Рассказ «Семен» был напечатан в «Красной Нови» в 1937 году и теперь перепечатан в «Литературной газете».
Мое невежество принесло мне огромную радость, радость наподобие той, с которой мальчик, впервые для себя, открывает, скажем, Жюль Верна или Лермонтова, или с которой ребенок, впервые, открывает прелесть морской воды и прибрежного песка. И я счастлив, что в зрелом возрасте мне удалось испытать тот наивный восторг, с которым мальчик говорит отцу: «Папа, а ты знаешь такого поэта — Лермонтова? Вот стихи писал!» Так же мне хочется воскликнуть: а вы знаете такого писателя — Андрея Платонова? Вот писал!
Это ведь редкая вещь открыть настоящего большого писателя, и все равно в каком возрасте, и пусть лучше поздно, чем никогда. Поражает в Платонове многое; прежде всего стиль, слог; это слог не надуманный, не сделанный, как, скажем, у Белого, тоже большого и своеобразного писателя, но любившего мудрствовать и умничать. Белый, — я уверен — смастерил свой слог. У Платонова же язык, так по меньшей мере кажется читателю, рождается непосредственно из души писателя, он его ровесник. Это совершенно самобытный, неповторимый язык. А ведь свой язык — это непременный атрибут настоящего писателя. Конечно, видны в платоновском языке элементы, сближающие его с другими писателями той же эпохи, скажем, с Зощенко. Писатель ведь не живет в безвоздушном пространстве, и было бы удивительно, если бы он, как бы оригинален он ни был, не испытывал никаких влияний извне. Но маленький писатель, испытывая влияние, захлебывается в чужом стиле и только изредка пускает свои пузыри. Могучий же талант легко ассимилирует чуждые ему элементы и претворяет их во что-то свое. Не буду голословным, вот первые две фразы из повести «Котлован». «В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». «В день тридцатилетия личной жизни», или «вследствие роста слабосильности в нем», или «задумчивости среди общего темпа труда» — все это, пожалуй, напоминает Зощенко, но только напоминает. Ибо, если отрешиться от отдельных фраз, а взять Платонова целиком, то получается нечто совершенно иное чем Зощенко. Зощенко был гениальным сатириком-бытописателем и, как всякий гениальный сатирик, он не только отражал существующую вокруг него мерзость, но и вносил в эту мерзость нечто свое, в частности, создавал язык. В двадцатые годы не только Зощенко записывал то, что слышал вокруг себя, но и Россия начинала говорить по-зощенковски. Но Платонов — писатель совсем иного толка; он писатель страдания, мучения. Его герои корчатся не только от голода, не только от бедности, они бьются об стену окружающего их страшного быта, пытаясь добиться в жизни смысла и толка. А это уж не сатира, это — метафизика, на манер Достоевского. И если уж Платонов нам кого-нибудь напоминает, то, пожалѵй, сумасшедшего инженера Кириллова из «Бесов». Если бы Кириллов Достоевского был писателем, он писал бы так, как писал Платонов. Вот, например, отрывок из рассказа «Семен». «Семилетний мальчишка смотрит на своих, постоянно хныкающих и ревущих от голода младших братишек. Семен видел, что его братья жалкие люди и, может быть, плачут от испуга, что их обратно прогонят туда, где они были мертвые, пока не рождались». Или: «утром, проснувшись, дети начинали плакать, они хотели есть, пить и, кроме того, им было странно и непривычно жить». Или еще: «Семен часто просыпался нечаянно счастливым, потом обдумывался и забывал, что ему жить хорошо». По-моему, это чисто Кириллов! Я не хочу сказать, что Платонов сознательно или подсознательно писал на кирилловский лад, кирилловским синтаксисом. Просто Достоевский изобразил Кириллова как странного, больного, гениального человека. Это персонаж сочиненный, а поколением позже, на Руси, в Воронежской губернии, в 1899 году, родился такой же странный, больной, гениальный человек. Но Платонов напоминает героев Достоевского еще по другой линии; все его герои, да и он сам, ищут смысл в той кошмарной действительности, в которой они живут. Рассказ «Семен» относится к царским временам, он явно автобиографичен, в нем речь идет о страшной нужде в среде фабричных. Повесть «Котлован» — это уже послереволюционный быт, он так же страшен, как быт в царские времена, но уснащен еще беспрерывной ложью о счастье при социализме и коммунизме; и герои Платонова мучаются этой ложью. Вот два отрывка из «Котлована». «Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Вощев?» — «О плане жизни». — «Завод работает по готовому плану треста, а план личной жизни ты мог проработать в клубе или в Красном уголке!» — «Я думал о плане общей жизни, своей жизни я не боюсь, она мне не загадка!» — «Ну и что же бы ты мог сделать?» — «Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшалась бы производительность». — «Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла». И дальше: «Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчивость, работал восемь а теперь семь, ты бы и жил, молчал, если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?» — «Без думы люди действуют бессмысленно, — произнес Вощев в размышлении».
Огромной, пронзительной жалостью к людям пропитаны вещи Платонова. Жалостью, опять-таки напоминающей Достоевского, напоминающей слова Димитрия Карамазова: «почему дите плачет?», или спор двух других Карамазовых — Ивана и Алеши — о построении мировой гармонии на слезах одного-единственного замученного ребенка.
Обе вещи, которые мне довелось прочесть, повесть «Котлован» и рассказ «Семен», кончаются смертью; в рассказе умирает мать, в повести умирает семилетняя девочка. Эти вещи кончаются смертью так, как кончается смертью всякая жизнь; женщина умирает от безысходной нужды, но, по меньшей мере, над ее телом не лгут. Девочка тоже умирает от голода и холода — дело происходит во времена коллективизации — над ней плачут колхозники и рабочие, над ее телом раздается безразличная, нудная ложь: «По последним материалам, — говорится в директиве обкома, — видно, что актив колхоза имени Генеральной линии (это колхоз, из которого умершая девочка) — уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма!» И дальше Платонов пишет: «И Вощев еще более поник своей, скучающей по истине, головой!» «Скучающая по истине голова», — лучше, пожалуй, о самом Андрее Платонове не скажешь. И такие люди, нам, в наш век, до отчаяния нужны!