Yuli Margolin. A Halt in the Desert
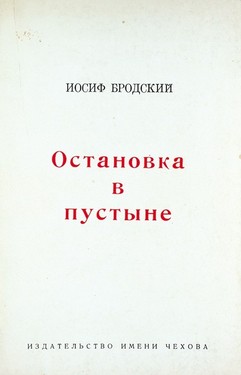
Написать очередной столбец Тель-Авивского блокнота занимает часто не более часа; тогда как написать рецензию – даже небольшую – о прочитанной книге требует порой недель, если не месяцев, осторожной оценки. И эти строки – не критический разбор только что дошедшей до меня книги стихов и поэм Иосифа Бродского, а лишь отклик – сочувственный отклик – на предпринятую американским издательством попытку «представить загранице молодого ленинградского поэта».
Мы мало знаем о Бродском. Но составители сборника, очевидно, знают автора интимно, – с тех пор, как «десять лет тому назад он, ужасаясь и ужасая других, читал первые свои стихи, почти каждое слово которых казалось ему нестерпимо бессмысленным, и он пропускал их по одному, по десять, целыми строфами». Боюсь, что и теперь… есть искушение пропускать целые строфы этого поэта, обязанного своей широкой известностью больше скандальному процессу и ссылке, чем трудным своим стихам (цикл «Горбунов и Горчаков» для меня непроницаем).
Бродский не из «чарователей», хотя и мог в 22 года написать очаровательный мадригал А.А. Ахматовой. Ни следа виртуозного блеска Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной… Он не для массового читателя, не для площади и эстрады. Надо в него вчитаться, чтобы привыкнуть к интонации и своеобразию стихов «Остановки в пустыне». Тем, кто ценит и любит современных английских поэтов (Т.С. Элиота, Од[е]на, Йетса) это будет легче. Элиот – учитель Бродского в поэтическом ремесле. Как бы ни судить о поэтической одаренности его – он едва ли не единственный в послесталинскую эпоху, о ком можно сказать: поэт не «советский», не «специфически-русский», а – «европейский»
Это, вероятно, и имел в виду автор предисловия в первой курьезно звучащей фразу своих «Заметок для памяти»: – «Бродский возводит современную русскую поэзию в сан мировой поэзии».
Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из зарубежных литературных экспертов взял на себя (благодарный) труд «разжевать» читателю хотя бы такую поэму, как «Авраам и Исаак», из строки в строку раскрывая ее поэтическое строение и смысл. Газетной статьи для этого мало. Стихи Бродского насыщены и своенравны, он еще пробует и экспериментирует, иногда тяжеловесно шутит. Но они всегда интересны, иногда на большой высоте, так что тон снисхождения и поучения по его адресу – неуместен. Приведу оно коротенькое стихотворение, как образец насыщенности его стиха.
Первое сентября
День назывался «первым сентября».
Детишки шли, поскольку осень, в школу.
А немцы открывали полосатый
шлагбаум поляков. И с гудением танки,
как ногтем – шоколадную фольгу,
разгладили улан.
Достань стаканы
и выпьем водки за улан, стоящих
на первом месте в списке мертвецов,
как в классном списке.
Снова на ветру
шумят березы и листва ложится,
как на оброненную конфедератку,
на кровлю дома, где детей не слышно.
И тучи с громыханием ползут,
минуя закатившиеся окна.
Это стихотворение рискует оказаться непонятным тому молодому читателю, особенно в России, который забыл или не воображает, что первого сентября 1939 года началась вторая мировая война вторжением немецких танков в Польшу, когда танки действительно «разгладили» (расплющили) улан, как шоколадную фольгу, – и другого первого сентября, когда писалось это стихотворение, другие танки хозяйничали в другой стране. «Снова на ветру шумят березы…». Мотив детей и школы трижды повторен в трехступенчатом строении стиха, как антитезы войны и мира: уланы – первые в списке мертвецов, «как в классном списке» и «как на оброненную конфедератку» ложится листва на крышу другой, чешской школы. Отметим и перебой ритма[,] подобный остановке сердца в строке об «оброненной конфедератке». Нельзя было проще и строже, без пафоса, сказать: «детишки шли, поскольку осень, в школу». «И тучи с громыханием ползут» – как танки. На протяжении 14 строк все увязано и скреплено лирически и образно.
То, что выделяет Бродского из ряда других советских поэтов – отсутствие всякой «гражданственности». Он не «властитель дум», он просто поэт, без «служенья муз» чему бы то ни было. В России это ставит его в особое положение по сравнению с теми, кто привык «наступать на горло собственной песне», говоря словами Маяковского. Некрасовское «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» в советской практике получило уродливое истолкование, но к Бродскому неприменимо. У него, наоборот, «поэтом ты не можешь не быть, а гражданином не обязан». Без выспренней позы, он ушел в свое частное поэтическое существование, – без того вынужденного (или искреннего) приспособления, которое мы находим у всех «ведущих» советских поэтов современности. В этом смысле он, может быть, и не «большой» поэт, но непреклонный в своем упрямстве.
Стоит в этой связи сопоставить «свечу» Бродского с прославленной «свечой» Пастернака: «Свеча горела на столе – свеча горела». Также и у Бродского, в окончании «Авраама и Исаака» зажглась свеча. Но это не морозная ночь Пастернака, когда «мело, мело по всей земле».
Горит свеча всего в одном окне.
Холодный дождь стучит по тонкой раме,
Как будто под водой, на самом дне,
трепещет в темноте и жжется пламя…
…Двор заперт, дворник запил, ночь пуста,
Раскачивает дождь замок из стали,
Горит свеча, и виден край листа.
Засовы, как вода, огонь обстали...
Не цитирую дальше, но отсылаю читателя к другому, сильному стихотворению, где «свеча» Пастернака вставлена Бродским в «Подсвечник» (стр. 118, 1968 г.). Это стихотворение кончается трагически:
Зажжем же свечи. Полно говорить,
что нужно чей-то сумрак озарить.
Никто из нас другим не властелин,
хотя поползновения зловещи.
Не мне тебя, красавица, обнять.
И не тебе в слезах меня пенять;
поскольку заливает стеарин
не мысли о вещах, но сами вещи.
Несколько слов о «Заметках для памяти», предпосланных книге и подписанных инициалами «Н.Н.». Двое моих коллег по газете (М. Коряков и В. Завалишин) назвали это предисловие «безобразным, неприличным, порочным, бессовестным и нахальным». Не больше и не меньше. Оба сошлись на том, что его «противно читать». Но я, прочитав, не испытал негодования, а лишь несколько… развеселился. В чем дело? Статья, очень содержательная и нужная, написана «иностранцем», ученым руссиннистом [sic!], изучившим русский язык грамматически и теоретически, но выражаться на нем ему трудно. Отсюда ляпсусы. Стоит перевести их (обратным переводом) на английский, и все станет на место. Статья написана с трогательной любовью к поэту. «Неграмотность» Николая Асеева и других, столь оскорбившая В. Завалишина, – выражение неудачное, но относилась она, конечно же, не к их владению русским зыком, а к чисто поэтическим по мнению автора недочетам. Не стоит спорить. Упоминание об Асееве и других я бы, конечно, вычеркнул из статьи. А в общем – не стоило оскорбляться, не стоило и оскорблять. Я благодарен автору предисловия за многие ценные указания.
