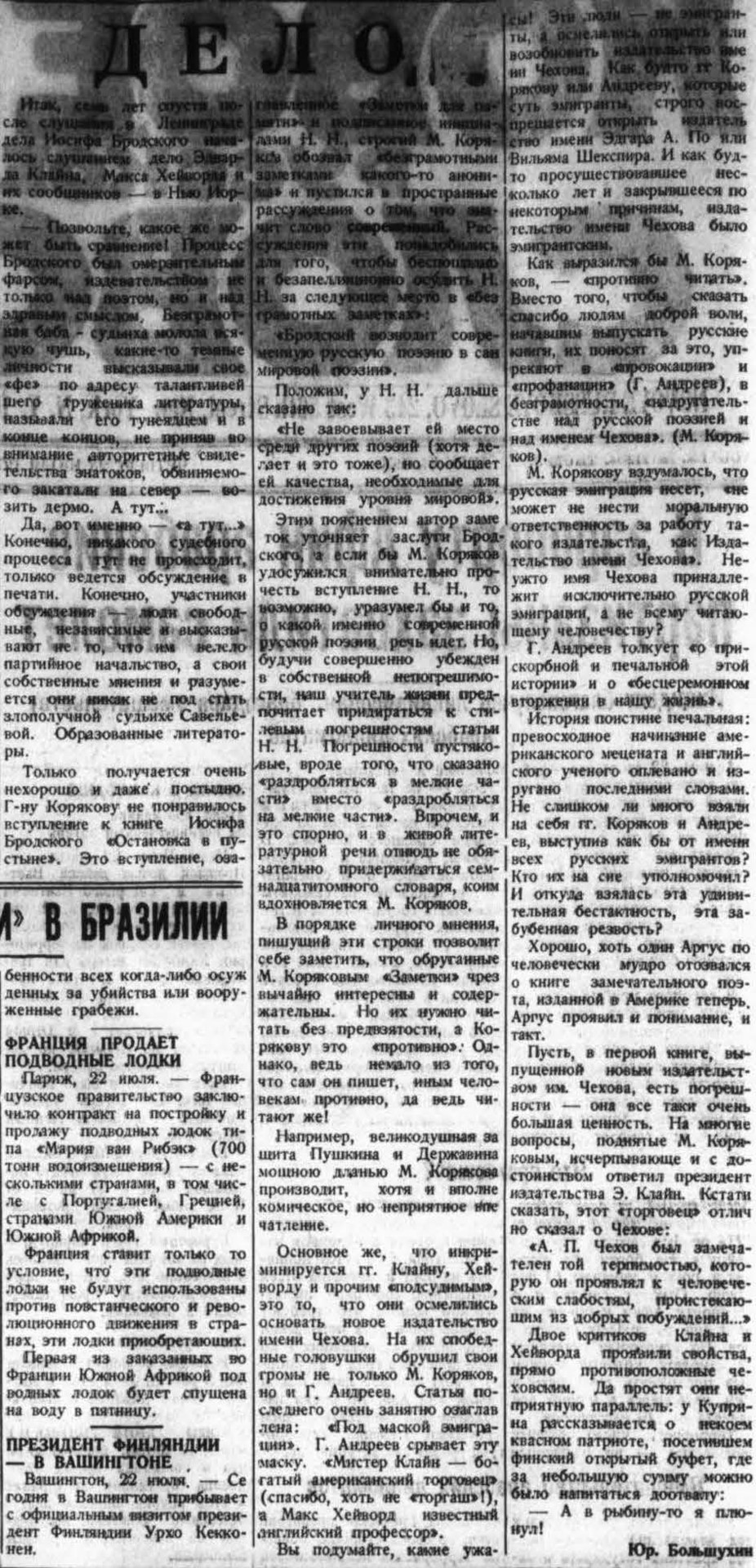Yuri Bolshukhin. The Affair
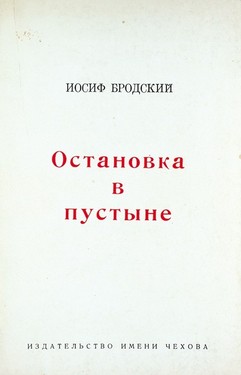
- Yuri Bolshukhin
-
Authors
- Paratext
-
Source Type
- Ostanovka v pustyne Preface
-
Publications
- July 1970
-
Date
Итак, семь лет спустя после слушания в Ленинграде дела Иосифа Бродского началось слушанием дело Эдварда Клайна, Макса Хейворда и их сообщников – в Нью-Йорке.
– Позвольте, какое же может быть сравнение! Процесс Бродского был омерзительным фарсом, издевательством не только над поэтом, но и над здравым смыслом. Безграмотная баба-судьиха молола всякую чушь, какие-то темные личности высказывали свое «фе» по адресу талантливейшего труженика литературы, назвали его тунеядцем и в конце концов, не приняв во внимание авторитетные свидетельства знатоков, обвиняемого закатали на север – возить дерьмо. А тут…
Да, вот именно – «а тут…». Конечно, никакого судебного процесса тут не происходит, только ведется обсуждение в печати. Конечно, участники обсуждения – люди свободные, независимые и высказывают не то, что им велело партийное начальство, а свои собственные мнения и[,] разумеется[,] они никак не под стать злополучной судьихе Савельевой. Образованные литераторы.
Только получается очень нехорошо и даже постыдно. Корякову не понравилось вступление к книге Иосифа Бродского «Остановка в пустыне». Это вступление, озаглавленное «Заметки для памяти» и подписанное инициалами Н.Н., строгий М. Коряков обозвал «безграмотными заметками какого-то анонима» и пустился в пространственные рассуждения о том, что значит слово современный. Рассуждения эти понадобились для того, чтобы беспощадно и безапелляционно осудить Н.Н. за следующее место в «безграмотных заметках»:
«Бродский возводит современную русскую поэзию в сан мировой поэзии».
Положим, у Н.Н. дальше сказано так:
«Не завоевывает ей место среди других поэзий (хотя делает и это тоже), но сообщает ей качества, необходимые для достижения уровня мировой».
Этим пояснением автор заметок уточняет заслуги Бродского, а если бы М. Коряков удосужился внимательно прочесть вступление Н.Н., то, возможно, уразумел бы и то, о какой именно современной русской поэзии речь идет. Но, будучи совершенно убежденным в собственной непогрешимости, наш учитель жизни предпочитает придираться к стилевым погрешностям статьи Н.Н. Погрешности пустяковые, вроде того, что сказано «раздробляться в мелкие части» вместо «раздробляться на мелкие части». Впрочем, и это спорно, и в живой литературной речи отнюдь не обязательно придерживаться семнадцатитомного словаря, коим вдохновляется М. Коряков.
В порядке личного мнения, пишущий эти строки позволит себе заметить, что обруганные М. Коряковым «Заметки» чрезвычайно интересны и содержательны. Но их нужно читать без предвзятости, а Корякову это «противно». Однако ведь немало из того, что сам он пишет, иным человекам противно, да ведь читают же!
Например, великодушная защита Пушкина и Державина мощною дланью М. Корякова производит, хотя и вполне комическое, но неприятное впечатление.
Основное же, что инкриминируется гг. Клайну, Хейворду и прочим «подсудимым», это то, что они осмелились основать новое издательство имени Чехова. На их бедные головушки обрушил свои громы не только М. Коряков, но и Г. Андреев. Статья последнего очень занятно озаглавлена: «Под маской эмиграции». Г. Андреев срывает эту маску. «Мистер Клайн – богатый американский торговец» (спасибо, хоть и не «торгаш»!), а Макс Хейворд известный английский профессор».
Вы подумайте, какие ужасы! Эти люди – не эмигранты, а осмелились открыть или возобновить издательство имени Чехова. Как будто гг. Корякову или Андрееву, которые суть эмигранты, строго воспрещается открыть издательство имени Эдгара А. По или Вильяма Шекспира. И как будто просуществовавшее несколько лет и закрывшееся по некоторым причинам, издательство имени Чехова было эмигрантским.
Как выразился бы М. Коряков, – «противно читать». Вместо того, чтобы сказать спасибо людям доброй воли, начавшим выпускать русские книги, их поносят за это, упрекают в «провокации» и «профанации» (Г. Андреев), в безграмотности, «надругательстве над русской поэзией и над именем Чехова» (М. Коряков).
М. Корякову вздумалось, что русская эмиграция несет, «не может не нести моральную ответственность за работу такого издательства, как Издательство имени Чехова». Неужто имя Чехова принадлежит исключительно русской эмиграции, а не всему читающему человечеству?
Г. Андреев толкует «о прискорбной и печальной этой истории» и о «бесцеремонном вторжении в нашу жизнь».
История поистине печальная: превосходное начинание американского мецената и английского ученого оплевано и изругано последними словами. Не слишком ли много взяли на себя гг. Коряков и Андреев, выступив как бы от имени всех русских эмигрантов? Кто их на сие уполномочил? И откуда взялась эта удивительная бестактность, эта забубенная резвость?
Хорошо, хоть один Аргус по-человечески мудро отозвался о книге замечательного поэта, изданной в Америке теперь. Аргус проявил и понимание, и такт.
Пусть в первой книге, выпущенной новым издательство им. Чехова, есть погрешности – она все-таки очень большая ценность. На многие вопросы, поднятые М. Коряковым, исчерпывающе и с достоинством ответил президент издательства Э. Клайн. Кстати сказать, этот «торговец» отлично сказал о Чехове:
«А.П. Чехов был замечателен той терпимостью, которую он проявлял к человеческим слабостям, проистекающим из добрых побуждений…»
Двое критиков Клайна и Хейворда проявили свойства, прямо противоположные чеховским. Да простят они неприятную параллель: у Куприна рассказывается о некоем квасном патриоте, посетившем финский открытый буфет, где за небольшую сумму можно было напитаться доотвалу:
– А в рыбину-то я плюнул!
And so, seven years after Joseph Brodsky’s hearing was opened in Leningrad, began the hearing of Edward Kline, Max Hayward, and their associates in New York City.
– Pardon me, but how can there even be a comparison! Brodsky’s trial was a revolting farce and a mockery of not only the poet but of sound reason. The ignorant female judge went on about some nonsense; some shady personas came out to pass their “overblown judgment” about the most talented figure of literature, calling him a parasite. Eventually, having rejected the authoritative evidence of experts, the defendant was sent to the north… to carry around manure. Meanwhile, here…
Yes, exactly, “meanwhile here.” Of course no court hearings are taking place here, there are only discussions in the press. Naturally, the participants of these discussions are free people – they are independent and say not what the top brass orders them to say, but rather their own opinions. Needless to say, these people are educated writers and cannot be compared to the likes of the ignorant judge Savelieva.
Except, it turns out to be not good at all, even shameful. Koriakov did not like the introduction to Joseph Brodsky’s book A Halt in a Dessert, titled “Notes for Memory” and signed by the initials N.N. The strict M. Koryakov dubbed it “the illiterate notes of someone anonymous” and embarked in length on discussing what the term “modern” means. These discussions were then used to mercilessly and categorically accuse “N.N.” for the following passage in his “illiterate notes”:
“Brodsky elevates modern Russian poetry to the level of world poetry.”
Suppose N.N said the following:
“He does not impose Russian poetry unto other poetic traditions (although he does this as well), but endows it with qualities necessary for achieving the level of world poetry.”
With this clarification, the author of the notes specifies the accomplishments of Brodsky. Had M. Koriakov bothered to carefully read N.N.’s introduction, perhaps he would have come to realize just what contemporary Russian poetry he wrote about. But, being completely convinced of his own infallibility, our teacher of life prefers to find fault in the stylistic errors of N.N’s article. The errors are insignificant and can be something like “shatter in pieces” instead of “shatter to tiny pieces.” Perhaps even this is debatable, since in literary writing it is not necessary to stick to a seventeen-volume dictionary, which has proven to be such an inspiration to M. Koriakov.
In his own opinion, the author of these lines would notice that the “Notes” condemned by M. Koriakov are extremely interesting and meaningful. But one must read them without any bias, which for Koriakov is “contrary.” However, there is still much of what he himself writes that is “contrary” to others, and yet people still read it.
One example is the noble defense of Pushkin and Derzhavin by the mighty hand of M. Koriakov. Although it is entirely comic, it leaves an unpleasant impression.
The main thing incriminated to Kline, Hayward, and other “defendants” is the fact that they dared establish a new publishing company in Chekhov’s name. The thunder of not only M. Koriakov but also of G. Andreev came crashing down on their poor little heads. The article of the latter is amusingly titled “Under the Mask of Emigration.” G. Andreev tears off that mask. “Mr. Kline is a rich American merchant” (at least not a “haggler”!),” while Max Hayward is a famous professor from England.”
You would think, “oh, what horrors!” These people aren’t émigrés, and yet they dared open or revive Chekhov Publishing House. It is as if the émigrés Koriakov or Andreev would be strictly forbidden from opening an Edgar A. Poe or a William Shakespeare publishing house. And as if Chekhov Publishing House that closed for certain reasons after several years of operation had been founded by the émigrés.
As M. Koriakov would have put, “it is disgusting to read.” Instead of thanking the people of good will who started publishing Russian books, they are denounced and rebuked for “provocation” and “desecration”(G. Andreev), illiteracy, “abuse of Russian poetry and Chekhov’s name” (M. Koriakov).
M. Koriakov got the opinion that the Russian emigration carries with it, and “cannot but carry the moral responsibility for the works of such a publishing house as Chekhov.” Does Chekhov’s name really belong exclusively to the Russian emigration, rather than to the readers of the whole world?
G. Andreev talks about “this sad and regrettable story” and about the “rude intrusion into our lives.”
This story truly is sad: the superb initiative of the American philanthropist and English scholar is spat on and cursed in the least appropriate way. Have Koriakov and Andreev not taken too much credit for themselves in speaking on behalf of all Russian émigrés? Who gave them the authority? And where is this astonishing tactlessness, this apparent audacity coming from?
Fine, at least Argus alone humanely and wisely responded to the book by the wonderful poet that is now published in the U.S. Argus showed both understanding and tact.
Maybe the first book released by the new Chekhov Publishing House does have some faults, but it is of great value still. Many questions raised by M. Koriakov were answered exhaustingly and with dignity by the president of the publishing house, E. Kline. By the way, this “merchant” spoke excellently about Chekhov:
“A.P. Chekhov was remarkable in his patience toward human weaknesses, stemming from people’s good will…”
The two critics of Kline and Hayward displayed qualities that are diametrically opposite to those described by Chekhov. Hope they forgive me for this parallel, but Kuprin once wrote of a certain home-brewed patriotism after having visited a Finish buffet where you could stuff yourself for a modest price:
“And as for the fish they gave me, I spat on it.”
"