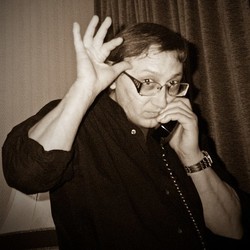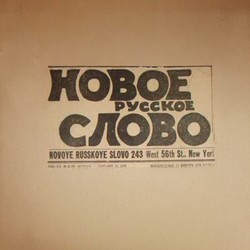Novoe Russkoe Slovo, EVIS Digital Archive (June 25, 1978)
Yuri Ivask. How Interesting!

В 1703 г. был основан Санкт-Петербург: с этого времени начинается история европейской России, прерванная в 1917 г.
В том же самом году, согласно этимологическому словарю Фасмера, было введено в русский язык понятие – «интерес», заимствованное из польского или немецкого языка. Но восклицать: «Как это интересно!» русские начали значительно позже, и тоже под западным влиянием.
«Интересное» тонко проанализировано в книге австрийского эссеиста Ханса Зедельмайра [sic!], который в своей книге «Смерть света» часто ссылается на В.В. Вейдле.
Зедельмайр цитирует Фридриха Шлегеля, который еще на рубеже XVIII и XIX веков сетовал, что в современном ему искусстве «прекрасное» заменяется «интересным» или «пикантным» и, наконец, «шокирующим». В этом Шлегель видел «отталкивающую и безобразную конвульсию деградирующего вкуса».
«В нашем веке, – пишет Зедельмайр, – наиболее полное воплощение “интересного человека” – это Пабло Пикассо. За свою долгую жизнь он создал столько самых своеобразных образов новизны. Что же именно у него “интересно”? Богатая, но и безответственная игра воображения, ужасавшая еще Киркегора [sic!], отца современного экзистенциализма (по мнению Зедельмайра, у этого датского философа можно найти продуманную критику Пикассо, который родился лет через 30 после смерти Киркегора).
В безудержных фантазиях-конструкциях Пикассо всегда присутствует бес иронии, убивающий любое человеческое чувство... Его «Плачущий человек» (1938 г.) не горюет: слезы окарикатурены.
Искусство Пикассо формально, автономно. Но немецкие экспрессионисты (и здесь Зедельмайр называет Макса Эрнста, Кокошку, Нольде) не только иронизируют, но и явно вдохновляются злом, упиваются создаваемым им адом на земле. Одержимы бесами и французские сюрреалисты, в 20-х гг. призывающие к анархии, террору. Анри Бретон писал в 1929 г.: «Самый сюрреалистический акт состоит в том, чтобы выйти на улицу с револьвером и стрелять в толпу». Вот куда идеологически восходит современный терроризм: например, бессмысленная стрельба оголтелых японцев-террористов на иерусалимском аэродроме.
Зедельмайр называет сюрреалистов – суреалистами, потому что они выявляют не то, что выше, а то, что ниже реальностей живой жизни и бытия духа.
Кубизм, экспрессионизм, сюр- или суреалиэм, а также и многие другие, близкие им явления, характерны для нашей атеистической эпохи, которая (по Зедельмайру) началась приблизительно в середине XVIII века, когда для некоторых французских энциклопедистов и их еще немногочисленных последователей – Бог умер. И об этом говорит не только Зедельмайр. А в нашем веке умирает и человек – бездушный, овеществленный и поэтому мертвый антропоид в живописи Пикассо (об этом у нас, еще в 10-х годах писал Бердяев в статье о кубизме).
Прав Шлегель: эстетика уже давно сводится к «интересности», «пикантности», «шоку» и, добавим – к новизне.
Затемняется солнце души и духа: поэтому Ханс Зедельмайр назвал свою книгу «Смерть света».
«Все это очень интересно!» Но сфера будто бы неограниченных возможностей авангардного искусства сужается. За последние два-три десятилетия все меньше нигилистических дерзаний, и «интересные» картины, романы, стихи выходят из моды через несколько месяцев.
Некоторое оправдание ветшающего модернизма Зедельмайр видит в том, что он был реакцией против рационализма современной технократии и бюрократии – не только в тоталитарных, но и в демократических странах. Отсюда культ иррациональной зауми у Хлебникова-Крученых или у дадаистов. Модернизм был также реакцией на выродившийся академизм, а в СССР – на соцреализм.
Вся эта проблематика современного искусства у Ханса Зедельмайра и В.В. Вейдле, а также у многих других, достаточно хорошо известна на Западе, но не продумана русскими авангардистами в СССР и в эмиграции: все они широко представлены в монументальном «Аполлоне-77». Редактор этого сборника Михаил Шемякин недавно закончил свое интервью, данное сотруднику «Русской мысли» (19 января с.г.). словами Достоевского: «красота спасет мир», но как будто забыл его же слова в «Братьях Карамазовых»: «Красота это страшная и ужасная вещь… если в ней совмещаются идеалы Мадонны и Содома».
Этого рода «красота» и была явлена в кощунственно-сниженных образах некоторых западных авангардистов, писавших на религиозные темы (например, Распятие у мексиканца Ороско). Но у них чаше преобладает Содом – та мистерия зла, которую Зедельмайр находит у немецкого экспрессиониста Макса Эрнста. Куда страшнее другое: полное обездушение человека и отсутствие любви в изображении мира, лишенного жизни и выпавшего из бытия духа. В этом смысле чище беспредметная живопись – упоение линиями и красками, например, в разноцветных «лоскутных» картинах Клее.
Михаил Шемякин очень одаренный художник: радуют сочетания красного, синего, белого на его «мучнистых» акварелях. Но изображает он преимущественно гротескные хари и фантастических зверей, похожих не то на рыб, не то на птиц. Этого рода гротески еще и XV веке «изобрел» Иероним Босх. Но Босх изображал ад, который ужасал и его самого, и его современников. В наше время, пишет Зедельмайр, ад секуляризован. Современные художники эстетически упиваются инфернальными сценками и пишут более или менее «интересные» картины.
Уже самый факт долголетия старца Авангарда наводит на мысль, что ему давно пора сойти со сцены. Он становится все менее интересным, пикантным, шокирующим. Хочется другого – какого-то неинтересного прекрасного искусства! Впрочем, этот довод преимущественно эстетический и поэтому порочный. Существенно другое: корни эстетики – метафизические. Искусство и культура укоренены в религии, – постоянно повторяет В.В. Вейдле. Даже героический нигилист Мальро это хорошо знал.
Надо так ставить вопрос: живет ли еще Бог в душах людей? Остается ли человек человеком? Скажу вопреки всем самым мрачным пессимистам: несомненно остается. Бог еще не умер. Человек еще не умер. Тому немало свидетельств. Поистине чудесным образом христианство не было выкорчевано большевиками в России, оно усилилось в коммунистической Польше. Есть человечность, есть товарищество в подпольном диссидентстве.
Позитивизм и материализм XIX века давно потускнели на верхах культуры. Предреволюционная Россия выдвинула новых христианских богословов: Бердяева, Булгакова, Лосского, Франка. И их немало на Западе: Маритэн или Тейар де Шардэн. И сколько замечательных писателей дала будто бы окончательно впавшая в безбожие Франция: это Пеги, Бернанос, Клодель. А в прошлом веке там жили святые – Бернадетта и Маленькая Тереза.
Оставшиеся на Западе атеисты (а их еще много) как-то притихли. Они скорее деисты-непредрешенцы, допускающие т.н. «религиозный опыт». Но это все явления культуры, а в России или в Литве – пусть и немногие – свою веру выстрадали, и сколько там святых, еще неизвестных миру.
Михаил Шемякин заявил в том же интервью: он и его друзья – христиане. Но в живописи и литературе, представленной в «Аполлоне-77», человек не похож на человека и Бог там не светит. Всюду господствует западная, да и русская (еще дореволюционная), инерция безбожного, бесчеловечного и выживающего из ума Авангарда. А многое, конечно, талантливо и «интересно»…
В наше время уже немало обращенных в веру. Но в искусстве этого не видно. Большинство современных художников еще одержимы «интересными», «пикантными», «шокирующими» бесами.
В книге «Смерть света» Ханс Зедельмайр цитирует те же самые стихи Евангелия от Луки, которые даны в эпиграфе «Бесов» Достоевского: «Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней: и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее: и пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме: и ужаснулись».
Кто же изгонит бесов?