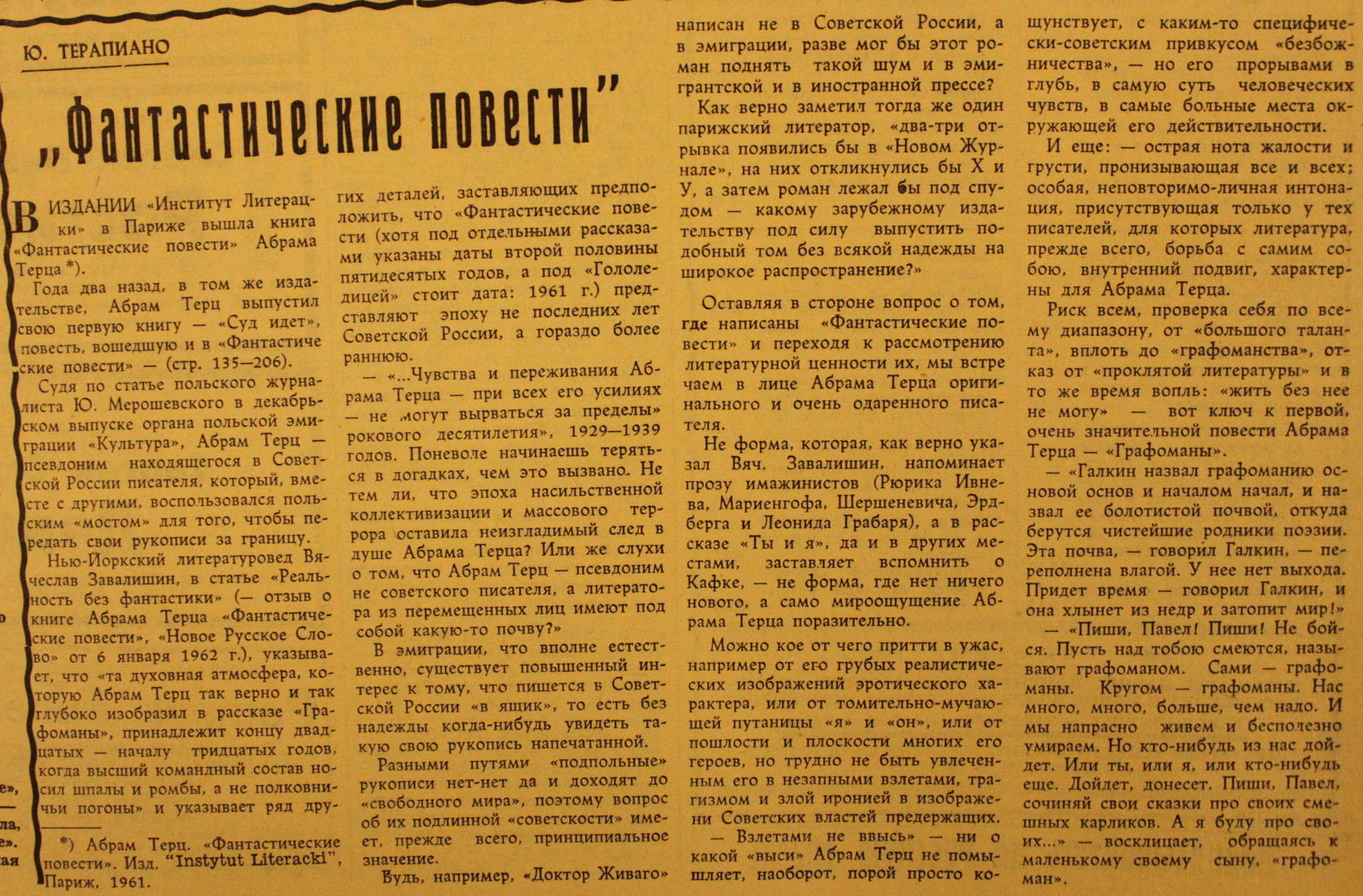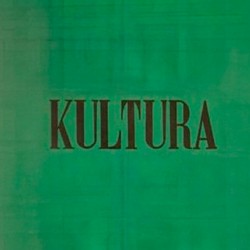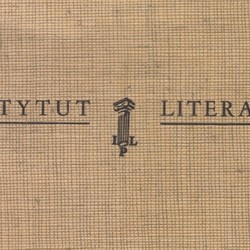Review of "Fantasticheskie povesti" by Abram Tertz
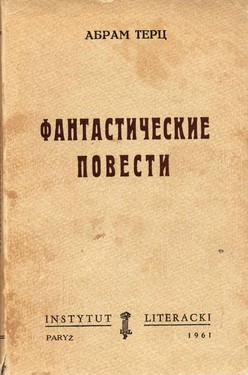
- Yuri Terapiano
-
Authors
- Review
-
Source Type
- Fantasticheskie povesti Review
-
Publications
- 17 February 1962
-
Date
- Paris
-
Place
- Russian
-
Language
Yuri Terapiano. Review of "Fantasticheskie povesti" by Abram Tertz // Russkaia Mysl' (February 17, 1962). Text prepared by Elmira Kharchenko.
В издании «Институт Литерацки» в Париже вышла книга «Фантастические повести»Абрам Терц. "Фантастические повести". Изд. "Instytut Literacki", Париж, 1961. Абрама Терца.
Два года назад, в том же издательстве, Абрам Терц выпустил свою первую книгу - «Суд идет», повесть, вошедшую и в «Фантастические повести» - (стр. 135-206).
Судя по статье польского журналиста Ю. Мерошевского в декабрьском выпуске органа польской эмиграции «Культура», Абрам Терц – псевдоним находящегося в Советской России писателя, который, вместе с другими, воспользовался польским «мостом» для того, чтобы передать свои рукописи за границу.
Нью-Йоркский литературовед Вячеслав Завалишин, в статье «Реальность без фантастики» (отзыв о книге Абрама Терца «Фантастические повести», «Новое Русское Слово» от 6 января 1962 г.), указывает, что «та духовная атмосфера, которую Абрам Терц так верно и так глубоко изобразил в рассказе «Графоманы», принадлежит концу двадцатых – началу тридцатых годов, когда высший командный состав носил шпалы и ромбы, а не полковничьи погоны», и указывает ряд других деталей, заставляющих предположить, что «Фантастические повести» (хотя под отдельными рассказами указаны даты второй половины пятидесятых годов, а под «Гололедицей» стоит дата: 1961 г.) представляют эпоху не последних лет Советской России, а гораздо более раннюю.
- «Чувства и переживания Абрама Терца – при всех его усилиях – не могут вырваться за пределы «рокового десятилетия», 1929-1939 годов. Поневоле начинаешь теряться в догадках, чем это вызвано. Не тем ли, что эпоха насильственной коллективизации и массового террора оставила неизгладимый след в душе Абрама Терца? Или же слухи о том, что Абрам Терц – псевдоним не советского писателя, а литератора из перемещенных лиц имеют под собой какую-то почву?»
В эмиграции, что вполне естественно, существует повышенный интерес к тому, что пишется в Советской России «в ящик», то есть без надежды когда-нибудь увидеть такую свою рукопись напечатанной.
Разными путями «подпольные» рукописи нет-нет да и доходят до «свободного мира», поэтому вопрос о их подлинной «советскости» имеет, прежде всего, принципиальное значение.
Будь, например, «Доктор Живаго» написан не в Советской России, а в эмиграции, разве мог бы этот роман поднять такой шум и в эмигрантской и в иностранной прессе?
Как верно заметил тогда же один парижский литератор, «два-три отрывка появились бы в «Новом журнале», на них откликнулись бы Х и Y, а затем роман лежал бы под спудом – какому зарубежному издательству под силу выпустить подобный том без всякой надежды на широкое распространение?»
Оставляя в стороне вопрос о том, где написаны «Фантастические повести», и переходя к рассмотрению литературной ценности их, мы встречаем в лице Абрама Терца оригинального и очень одаренного писателя.
Не форма, которая, как верно указал Вяч. Завалишин, напоминает прозу имажинистов (Рюрика Ивнева, Мариенгофа, Шершеневича, Эрдберга и Леонида Грабаря), а в рассказе «Ты и я», да и в других местами, заставляет вспомнить о Кафке, - не форма, где нет ничего нового, а само мироощущение Абрама Терца поразительно.
Можно кое от чего прийти в ужас, например от его грубых реалистических изображений эротического характера, или от томительно-мучающей путаницы «я» и «он», или от пошлости и плоскости многих его героев, но трудно не быть увлеченным его внезапными взлетами, трагизмом и злой иронией в изображении Советских властей предержащих.
- Взлетами не ввысь - ни о какой «выси» Абрам Терц не помышляет, наоборот, порой просто кощунствует, с каким-то специфически-советским привкусом «безбожества», - но его прорывами в глубь, в самую суть человеческих чувств, в самые больные места окружающей его действительности.
И еще: - острая нота жалости и грубости, пронизывающая все и всех; особая неповторимо-личная интонация, присутствующая только у тех писателей, для которых литература, прежде всего, борьба с самим собою, внутренний подвиг, характерны для Абрама Терца.
Риск всем, проверка себя по всему диапазону, от «большого таланта», вплоть до «графоманства», отказ от «проклятой литературы» и в то же время вопль: «жить без нее не могу» - вот ключ к первой, очень значительной повести Абрама Терца – «Графоманы».
- «Галкин назвал графоманию основой основ и началом начал, и назвал ее болотистой почвой, откуда берутся чистейшие родники поэзии. Эта почва, - говорил Галкин, - переполнена влагой. У нее нет выхода. Придет время – говорил Галкин, и она хлынет из недр и затопит мир!»
- «Пиши, Павел! Пиши! Не бойся. Пусть над тобою смеются, называют графоманом. Сами – графоманы. Кругом – графоманы. Нас много, много, больше, чем надо. И мы напрасно живем и бесполезно умираем. Но кто-нибудь из нас дойдет, или ты, или я, или кто-нибудь еще. Дойдет, донесет. Пиши, Павел, сочиняй свои сказки про своих смешных карликов. А я буду про своих…» - восклицает, обращаясь к маленькому своему сыну, «графоман».
Как пронзительно-точно (и как безысходно грустно) передано сияние елочных свечек в рассказе «Гололедица».
- «Мой пьяный взгляд невольно тянулся к елке, на которой, наконец, зажгли свечи, и я потребовал, чтобы все другое в комнате погасили, предоставив одним свечам свободу действия. Они весело мигали и славно потрескивали, и создавали вокруг себя праздничную атмосферу, недостающую нам, и постепенно все мы, за исключением, может быть одного Бориса, подпали под их влияние и как-то сгрудились и приютились подле нашего домашнего елочного иконостаса…
А свечи - заняты своим, они догорают - и я следил с интересом и душевным содроганием за их неравномерной кончиной».
«Они догорали так же беспечно, как жили, и даже усиливали к финалу расточительную яркость пламени. Другие, с середины пути, пускались в экономию, словно понимали, в чем дело, и рассчитывали оттянуть развязку как можно дальше… Третьи лишь в конце постигали весь ужас своего положения, и тогда они принимались метаться из стороны в сторону на жестяном ложе, бросая на стены и потолок преувеличенные рефлексы, и выпускать до отказа все соки и газы, и, захлебываясь, тонуть в своем заживо разложившемся теле, являя взору все признаки самой непристойной агонии».
Абрам Терц вообще в выражениях не стесняется, употребляя порой даже бранно-непристойные слова, изображая во всех подробностях позы Наташи, на диване у Бориса, тон Терца вообще резкий, порой вызывающий, он с особым удовольствием как-бы передразнивает чинную благопристойность «соц-образцов» современной советской литературы, не упуская случая лишний раз поиздеваться и поиронизировать над ними.
Абрам Терц ненавидит советскую действительность, он все время «против советского строя», но, думается, ни один строй на свете, ни какое самое благоустроенное человеческое общество его бы не удовлетворило, он принципиально против всего, принципиально не желает ничему доверять и ничего принимать.
Его «мир» за пределами этого, логически-стройного мира трех измерений, основанного на последовательности и логике, его логика - иная.
Самое замечательное в рассказе «В цирке», конечно, не то, что в нем Абрам Терц с ядовитой иронией перекраивает по-своему Зощенковских героев и Зощенковский мир-цирк, а в той извилине психики Кости, с которой все начинается.
Наблюдая, как фокусник в цирке тащит у зрителей - у кого бумажник, у кого какую-нибудь мелочь, например, перочинный нож, сберкнижку «и деликатный дамский предмет», «Косте вдруг обидно стало, что он ничего не умеет» - и вот Костя, удачно попробовав вытащить у солидного гражданина, при выходе, бумажник из кармана, становится ловким вором.
Все же похождения и его гибель - только приложение к этому основному моменту.
Раздвоение личности - показывает далее Абрам Терц, - вполне обычное дело.
«Я» прекрасно может отделяться и ничего нет легче, как наблюдать «его» похождения, нет точно установленной границы между мужчиной и женщиной!
Красивый грузин на глазах перерождается в женщину, у него вырастает женская грудь.
Происходящее во времени легко перемещается - прошлое возвращается в настоящее без труда, события дореволюционной жизни дореволюционного помещика врываются в настоящее:
- «Пора, барин, вставать, скоро светает» - кричит мне в ухо Никифор. Я натягиваю сапоги, сбегаю с крыльца, прыгаю в седло. Катенька в розовом капоте машет рукой с веранды…»
А «мировая чепуха», уже бывшая, непрестанно повторяясь, как ветер, возвращается «на круги своя», борьба личности со внешним миром непрестанна, - именно поэтому к рассказу и взят эпиграф из Библии: «И остался Иаков один. И боролся некто с ним, до появления зари…» (Бытие, XXXII, 24).
- «Все было по старому. Шел снег и было такое же самое состояние суток. Два инженера - его бывшие сослуживцы, Лобзиков и Полянский - играли на рояле Шопена. Четыреста женщин по-прежнему рожали четыреста младенцев в минуту… Шатенка надевала штаны. Брюнетка, склонясь над тазом, готовилась к встрече с Николаем Васильевичем, который, как бывало, бежал под хмельком по морозу. Труп Николая Васильевича лежал в запертой комнате. Лида, как часовой, ходила под его окнами…»
- Скучно на этом свете, господа!
А неумолимая судьба, рассчитанная математически точно, непременно приведет Натащу в назначенный день и час, «ровно в 10 утра, минута в минуту», в тот Гнездниковский переулок, где на нее должна упасть огромная ледяная сосулька и убить. Ни чудесное ясновидение героя рассказа, ни бегство его с Наташей из Москвы, ни помощь всемогущего полковника М.В.Д. Тарасова не в состоянии помешать тому, что должно свершиться.
В то же время и ясновидение героя и вся фабула и ледяная сосулька - символы страны, где происходит действие, это символы сил, гнетущих индивидуальность!
Потусторонние сказочные существа тоже вступают в круг тех «нереальных реальностей», из которых, по Абраму Терцу, сплетается человеческая жизнь.
Изгнанные из рек русалки (и другая нечисть) принуждены применяться к новым условиям жизни в Советской стране.
Это, конечно, тоже злая сатира, издевательство.
«...Таким образом» - повествует домовой, хозяин коллективной квартиры, - «в скором времени одни русалки остались. Да и те… Сами знаете: индустриализация природных богатств. Дорогу технике! Ручьи, реки, озера химическими веществами пропахли. Метилгидрат, толуол. Рыба - та попросту дохнет и вверх брюхом плывет. А эти, бывало, вынырнут, отфыркаются кое-как, а из глаз - не поверите! - слезы от горя и разочарования. Сам видел…»
Леший служит в Лесном отделе, соседка, Софья Францевна, - бывшая русалка, соседка Кроваткина - ведьма, а когда настает беда и только молитва может спасти, никто, даже писатель Сергей Сергеевич, не умеет молится - наступает погибель.
Но не менее нечисти страшны мертвые души героев «Суд идет», где только полудети, Сергей и Катя, - люди, а не бездушные эгоисты, как взрослые - до конца умерщвленные атмосферой, созданной «Хозяином».
Хилый еврей на каторге (после смерти «Хозяина» его, вероятно, забыли освободить), «хилый еврей, обстриженный под машинку, в рваных опорках, замазанных грязью», подняв найденный старый меч к небу, резюмирует:
- «Во имя Бога! С помощью Бога! Взамен Бога! Против Бога!» - приговаривал он, будто натуральный безумец. - «И вот Бога нет. Осталась одна диалектика. Скорее для новой цели куйте новый меч!»
Абрам Терц, подобно своим героям - старому еврею с мечом, и другому - с бритвой, готов повторить их заклинательно-безумные жесты:
- «...Ты вскочил со стула. Все свидетели твоего злодеяния были в сборе. Ага! Попались! Ты замахнулся на меня... на весь мир своей заготовленной бритвой».
"